Библиотека ||
Кронштадтская крепость
Глава первая
ОСНОВАНИЕ КРЕПОСТИ
(1703–1725 гг.)
Фрагмент картины
Худ. Н. Добровольского
|
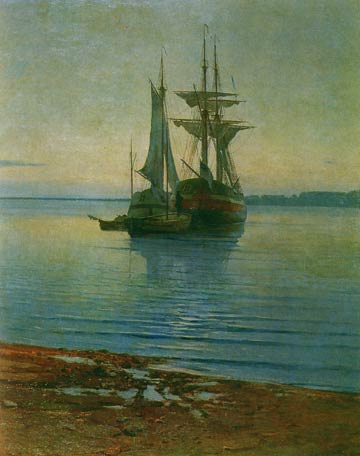
|
[Стр. 14]
РОЖДЕНИЕ ПЕТЕРБУРГА
В народном эпосе скандинавских стран сохранилась легенда, повествующая о создании в устье Невы замечательного города. «Много людей, – говорится в этой легенде, – в старые годы принималось строить здесь город; но это им не удавалось, потому что топкое болото поглощало строения. Наконец, явился сюда и начал работу русский богатырь-волшебник: построил один дом – поглотила трясина, построил другой, третий – то же самое. Рассердился богатырь и придумал хитрое, небывалое дело: взял он и сковал на руках вдруг целый город и поставил на болото, которое уже не могло поглотить его, и держит до сих пор. Этот волшебный город, в воображении богатыря Петра, должен был достраиваться в то время, когда он на своем галиоте в первый раз подходил к острову Котлину. Сделав у острова промеры глубин, Петр I понял, что именно здесь находятся ворота для входа в Неву». 1 Однако это лишь легенда. На самом же деле все происходило иначе и гораздо труднее. Не богатырь, а народ своими руками, нередко при этом проливая кровь и жертвуя жизнью, построил город, которому предстояло сыграть очень важную историческую роль.
Город, о котором повествует легенда, был заложен и возведен на болоте в самом начале XVIII в. Мало кто мог предположить в ту пору, что именно этот далекий окраинный город, где проспектами и улицами стали вырубленные в непроходимом лесу просеки, а первыми поселенцами и строителями – солдаты и согнанные по царскому указу со всех концов страны работные люди, превратится в величественную столицу огромного государства. Что именно отсюда русские станут «грозить шведу», начнут освобождать исконно русские земли и налаживать политические и торговые связи с европейскими государствами.
Известный историограф эпохи Петра I Г. И. Тимченко-Рубан так писал об удручающем впечатлении от избранного государем для столицы места: «Место такое, которое одно всякаго бы инаго сильно было отвратить от такого предприятия, ибо было оно болотное, непроходимое, пустое и весьма отдаленное для работников, коими строить оный (Петербург. – Авт.) надлежало». 2
Однако неблагоприятные климатические условия не остановили Петра I, ибо он предвидел важность стратегического положения устья Невы в решении его далеко идущих планов – получить выход в Балтийское море, вернуть несправедливо отторгнутые русские земли. Так уж сложилось, что почти в течение столетия здесь беспрепятственно хозяйничали шведы, усилив крепости многочисленными гарнизонами, установив за каменными бастионами мощные орудия. И хоть далеко находились эти крепости и гарнизоны от самой Швеции, терять их шведский король не хотел, ибо слишком важны были в страте- [стр. 15] гическом отношении эти болотистые, поросшие густыми лесами места. Вот почему не жалел он денег на содержание крупных гарнизонов, на снаряжение эскадр боевых кораблей, которые время от времени крейсировали между Швецией и устьем Невы, хвастливо демонстрируя военно-морскую мощь одной из передовых скандинавских стран.
Следовало напомнить шведскому королю, что р. Нева и прилегающие к ней земли с незапамятных времен являлись русскими владениями. Древнейшие акты и летописи, в частности Переписная окладная книга 7008 (1500) г., гласили, что большая часть этих владений с давних пор относилась к Водской пятине Великого Новгорода. Древние русские города Корела (Кексгольм), Ладога (Старая Ладога), Ям (Ямбург), Копорье издавна украшали эти земли. Здесь же позже были основаны Иван-город (часть нынешней Нарвы) и Орешек (Нотебург, позднее – Шлиссельбург).
Успешное развитие торговых отношений Руси со Скандинавским севером и другими европейскими странами придавало важное значение р. Неве и близлежащим землям, в связи с чем шведы стремились захватить эти места. Так, в 1240 г. они предприняли попытку осуществить свои захватнические планы, но крестовый поход шведских завоевателей под предводительством Биргера Фолькунга закончился для них весьма плачевно. Новгородская дружина под командованием князя Александра Ярославича, получившего позже в честь одержанной им блистательной победы почетное имя «Невский», наголову разбила врага.
В 1300 г. крупная шведская эскадра вторглась в устье Невы и захватила его. При впадении в Неву р. Б. Охты шведы возвели город и укрепили его крепостью «твердостью несказанной», названной Ландскроной. Но недолго просуществовала эта крепость. После ожесточенного штурма русские воины захватили ее и сровняли с землей. Однако они допустили ошибку, не закрепившись на отвоеванных рубежах. Шведы воспользовались этим, и их военные суда вновь стали появляться в невских водах, заходить в Ладожское озеро, грабить русские купеческие суда. Вот тогда и возникла у новгородцев мысль обезопасить от набегов шведов эти земли, построив у истока Невы крепость. Так в 1323 г. возник город Орешек. В том же году со шведами был заключен Ореховский мир, согласно которому между враждующими сторонами устанавливался «вечный мир». Но мир этот длился недолго. В 1348 г. шведский король Магнус Эриксон объявил новый крестовый поход против Руси и начал «крестить» огнем и мечом русских в свою веру. Пал Орешек. Со временем его вновь заняли русские дружины.
Вплоть до Ливонской войны велись нескончаемые сражения за эти земли не только с шведскими завоевателями, но и с немецкими рыцарями-крестоносцами. «Рыцари меча» захватили многие русские владения и обложили их тяжелой данью. В битве на Чудском озере, известной в истории как Ледовое побоище, русские наголову разбили немцев и освободились от их владычества.
В 1558 г. началась Ливонская война, длившаяся до 1583 г. Поначалу успех сопутствовал русским войскам. Возникла даже угроза существованию самого Ливонского ордена. Однако затем последовал ряд неудач. В 1582 г. Иван Грозный был вынужден заключить перемирие с Польшей сроком на десять лет, а через год и мир с Швецией, потеряв не только ранее завоеванные земли, но и уступив русские города Ям, Копорье, Ивангород. И лишь в 1590 г. были возвращены эти древние владения Русскому государству.
Но вскоре наступило так называемое Смутное время («Смута»), приведшее [стр. 16] Русь к полной разрухе. Шведы, воспользовавшись внутренними распрями, отсутствием у русских боеспособных войск, трудностями, возникшими внутри Русского государства, овладели Новгородом, а затем осадили Псков. Царь Михаил Федорович был вынужден отказаться в пользу шведов от исконных владений русского народа – Ивангорода, Яма, Копорья, Орешка, Корелы. По Столбовскому миру, заключенному между Россией и Швецией 27 февраля 1617 г., шведский король стал именоваться государем земли Ижорской. Довольный итогами договора, шведский король Густав II Адольф в речи, произнесенной на заседании риксдага (парламента. – Авт.), заявил: «Одно из величайших благ, дарованных Богом Швеции, заключается в том, что русские, с которыми мы издавна были в сомнительных отношениях, отныне должны отказаться от того захолустья, из которого так часто безпокоили нас. Русские опасные соседи. Теперь без нашего позволения русские не могут выслать ни даже одной лодки в Балтийское море; большие озера Ладожское и Пейпус (Псковское. – Авт.), Нарвская Поляна, болота в тридцать верст ширины и твердые крепости отделяют нас от них. Теперь у русских отнят доступ к Балтийскому морю и, надеюсь, не так-то легко будет им перешагнуть через этот ручеек». 3 Король был прав. В то время «перешагнуть через ручеек» русские не могли. Но то, что было немыслимо в 1617 г., стало возможным в 1700 г.
Петр I выступил против шведов в союзе с польским и датским королями сразу же после заключения мира с Турцией. Молодой шведский король Карл XII с пятнадцатитысячным войском высадился у самой столицы Дании – Копенгагена и 8 августа 1700 г. вынудил датского короля заключить выгодный для шведов мир. Ободренный успехом, он двинул затем свои войска против поляков. Польский король Август, узнав о наступлении врага, поспешил снять осаду Риги, дав возможность неприятелю перебросить часть своих сил для отражения наступления русских войск, которые под руководством графа генерал-фельдмаршала Ф. A. Головина направились к Нарве с целью захвата крепости, чтобы открыть таким образом путь к Финскому заливу. В столь неблагоприятных условиях трудно было русскому командованию рассчитывать на победу. Всего лишь два полка – Преображенский и Семеновский – были полностью боеспособны. Остальная часть войск состояла из плохо обученных солдат, ибо это были крестьяне, оторванные недавно от сохи. Некоторые офицеры, особенно иностранцы, 6oльше заботились о собственном благополучии, нежели об исходе предстоящих боев. Да и вооружение русской армии было далеко от совершенства: пушки и порох оказались непригодными для стрельбы, ощущалась нехватка снарядов. Не мудрено, что под Нарвой русские потерпели поражение. Однако Петр I не пал духом. Он вновь энергично принялся формировать войско: по всей Руси велся набор рекрутов, на полную мощь работали заводы, на которых из церковных колоколов отливались пушки, накапливалось военное снаряжение и продовольствие.
Вскоре сбылись слова Петра I, сказанные им после поражения под Нарвой: «Господа шведы, может быть, и еще не раз побьют нас, но у них же мы научимся побеждать их…»4 IIocле важных побед сподвижника царя генерал-фельдмаршала Б. П. Шереметева в Лифляндии и генерал-адмирала П. М Апраксина на Ижорской земле настало время преподать «урок» шведам. Для этой цели Петр I выбрал Нотебург.
Интересное описание крепости Нотебург оставил нам знаменитый немецкий ученый-энциклопедист и путешест- [стр. 17] венник Адам Олеарий, побывавший в России еще в 30-е годы XVII в. Ему история обязана созданием не только шедевра естественной и технической мысли – Готторпского глобуса, позднее подаренного Петру I и ныне хранящегося в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого Академии наук СССР в Ленинграде, но и появлением книги «Описание путешествия в Московию», которая сыграла важную роль в ознакомлении Европы с Россией. В ней А. Олеарий пишет: «Крепость Нотебург, в 8 милях от Ниеншанца (по-русски Канец. – Авт.), лежит от экватора на 50° 30’ у выхода из Ладожского озера; она со всех сторон окружена глубокою водою и расположена на острове, похожем на орех… Отсюда и название его Noteburg (Ореховый замок)… Крепость построена русскими и окружена стенами в 2 1/2 сажени (5,334 м. – Авт.) толщиною. Так как амбразуры (подобно таковым во всех старых русских крепостях) направлены прямо вперед и снаружи немногим лишь шире, чем изнутри, то они не особенно удобны для стреляния из них и для защиты. В одном из уголков крепости находится особая крепко защищенная небольшая цитадель, откуда крепость может быть обстреливаема внутри… Нам говорили, что осажденные русские держались вплоть до последних двух человек. Когда они по капитуляции должны были выступить со всем скарбом и имуществом и со всеми находившимися при них людьми, то вышли только эти двое. Когда их спросили, где же остальные, они отвечали: остались только они одни, так как все другие умерли от заразной болезни. Вообще русских хвалят, что они гораздо храбрее и смелее держатся в крепостях, чем в поле…»
И вот эту крепость русским надлежало отвоевать у шведов. Штурму крепости предшествовали тщательные приготовления. Флотилия из 13 судов, среди которых были фрегаты «Св. Дух» и «Курьер», построенные тайно в Архангельске, волоком были перетащены из Белого моря в Онежское озеро. Это были не просто 254 тяжелых километра через леса и болота. Это были километры и даже метры поистине героического труда и суровых испытаний. Невывороченные пни вырубленных заранее деревьев, огромные валуны все время мешали продвижению вперед. Из-за неровностей местности суда соскальзывали с катков, что нередко калечило и даже угрожало жизни людей. Построенные наспех мосты рушились под тяжестью орудий и судов. На пределе физических и моральных сил солдаты, преодолев многочисленные препятствия, сумели спустить все суда в Онежское озеро, благополучно достичь Ладожского озера, а затем вновь по сухопутью из Ладожского озера проникнуть в Неву.
Замысел Петра I заключался в неожиданной атаке крепости с Невы, откуда шведы привыкли ждать только свои корабли. И замысел этот вполне удался. Пятьдесят русских судов отрезали Нотебург от Финского залива, где крейсировала эскадра вице-адмирала Нумерса. После усиленного артиллерийского огня началась атака. Тринадцать часов длился штурм. Не выдержав решительного натиска русских войск, шведы 11 октября 1702 г. сдали крепость, мощные каменные стены которой они долго считали неприступными.
Богатые трофеи достались победителям: 21 медная и 107 чугунных пушек, 1 мортира, 7 гаубиц усилили артиллерийскую мощь русских войск. «Таковым образом… отечественная крепость возвращена, которая была в неправдивых (неправедных. – Авт.) неприятельских руках 90 лет, – писал Петр I. – Правда, что зело жесток этот орех был, однако ж, славу Богу, счастливо разгрызен…»5
[Стр. 18] Первая серьезная победа придала сил и уверенности русским войскам. После непродолжительного боя 1 мая 1703 г. они под командованием генерал-фельдмаршала Б. П. Шереметева захватили еще одну шведскую крепость – Ниеншанц, расположенную у впадения р. Б. Охты в Неву, переименованную в Шлотбург (Замок-город). Таким образом Нева, главный водный путь, связывающий Онежское и Ладожское озера с Финским заливом, была полностью освобождена от шведов. А вскоре была одержана и первая морская, а точнее речная победа.
Ничего не зная о событиях последних дней, вице-адмирал Нумерс на флагманском корабле поднял сигнал – идти в восточную часть залива. Не ведал шведский адмирал, какой сюрприз готовят ему русские. Посты, выставленные Петром I на побережье, заметив приближение неприятельских судов, немедленно оповестили о них условленным сигналом. Петр I приказал внимательно следить за действиями эскадры. Шведы, ничего не подозревая, подошли к самому устью Невы. Тишину наступающей ночи разорвали два выстрела – Нумерс салютовал гарнизону крепости, сообщая о своем прибытии. В ответ раздались два ответных выстрела. Обычные формальности были соблюдены. Только после этого от эскадры отделились два судна – восьмипушечная шнява * [* Шнява – легкое двухмачтовое военное судно начала XVIII в. для разведывательной и посыльной службы. Имело вооружение от 14 до 18 орудий среднего калибра.] «Астрильд» и десятипушечный бот** [** Бот (голл. boot) – небольшое одномачтовое парусное судно. Применялось для перевозки грузов и обеспечения связи. Вооружалось малокалиберной артиллерией и фальконетами.] «Гедан». Петр I решил захватить эти суда, идущие к нему прямо в руки. Посадив солдат Преображенского и Семеновского полков в 30 лодок, он атаковал шведские корабли. Атака велась двух сторон. Первый отряд лодок под командованием капитан-бомбардира, или «капитана от бомбардиров», Петра Михайлова (так именовали Петра I в войсках. – Авт.) атаковал «Астрильд». Второй отряд возглавил ближайший сподвижник Петра I – поручик Александр Меншиков. Он направил лодки к «Гедану». Вооруженные ружьями и гранатами преображенцы и семеновцы стремительно атаковали неприятельские корабли и, несмотря на сильный огонь, взяли их на абордаж. Жестокой был схватка. Преодолев упорное сопротивление, русские захватили два шведских судна. Это произошло 7 мая 1703 года. Победа была психологически важна тем, что придала уверенности русским: шведов можно бить и на море. 8 мая захваченные суда были торжествено введены в Неву.
За этот бой Петр I и Меншиков бы ли награждены орденами Андрея Первозванного, все офицеры удостоены золотых, а солдаты и матросы серебряных медалей с надписью «Небываемое бывает». Высокую награду Петру I вручил первый кавалер упомянутого орде на генерал-фельдмаршал Ф. А. Головин.
Так сбылась давняя мечта русского народа. Был сделан первый шаг к морю. Однако пока что только воды Финского залива ласкали взор молодого русского царя. Но, стоя на его берегу, он уже видел корабли, идущие далеко в Балтийское море. Видел города, которые встанут неприступными крепостями на пути врагов.
Военный совет, состоявшийся после взятия Ниеншанца, принял решение о поисках места для возведения крепости и сооружения торговой пристани. Запись в «Журнале, или поденной записке Петра Великого» так повествует об этом: «По взятии Канец отправлен воинский совет, тот ли шанец крепить [стр. 19] или иное место удобнее искать (понеже оный мал, далеко от моря и место не гораздо крепко от натуры), в котором положено искать новаго места, и по нескольких днях найдено к тому удобное место, остров, который назывался Люст Елант (т. е. Веселый остров; в некоторых источниках Люст Элант. – Авт.), где в 16-й день мая (в неделю пятидесятницы) крепость заложена…»6.
Для строительства крепости был выбран, как видно из приведенной записи, остров Люст Елант, он же Яннисари – по-русски Заячий остров. Выбор с военной точки зрения оказался весьма удачным. С трех сторон остров окружала вода, а с четвертой, северной, – неширокая протока, за которой тянулись топкие болота. Подступиться к такому острову было не так-то просто. Мимо него не могла пройти незамеченной даже небольшая лодка.
16 мая 1703 г. застучали топоры, завизжали пилы. Началось строительство будущей столицы. Руководил закладкой города «друг сердешный» государя А. Д. Меншиков. Где же в эти дни находился Петр I? В упоминавшемся выше «Журнале» в мае он записал:
«В 10-й день был благодарный (благодарственный. – Авт.) молебен.
В 11-й день капитан пошел в Шлиссельбург сухим путем.
В 13-й день на яхте гулял на озере верст 10 и больше.
В 14-й день приехал на Сяское устье.
В 16-й день, в неделю пятидесятницы, пошли
(подчеркнуто Авт.).
В 17-й день приехали на Лодейную пристань» 7.
Значит, накануне закладки города Петр убыл на р. Свирь в Лодейное Поле, где в феврале 1703 г. была основана корабельная верфь, а уже в марте начал строиться первый фрегат. Видимо, царь посчитал, что нехитрое это дело заложить крепость, важнее всего – ускорить создание флота.
В конце июня приступили к возведению церкви святых Петра и Павл. В ознаменование этого события царь приказал палить из пушек. В честь святого Петра (Петров день отмечался 29 июня) и назвали крепость, а потом и город Санкт-Питербурхом.
На постройке крепости было занято очень много людей. Сначала пришлось «поднимать» остров, так как он был довольно низменным, и при подъеме уровня воды в Неве нередко значительная его часть затоплялась. Многие тысячи людей, кто в старых мешках и рогожках, а кто и в подолах платьев (здесь работали и женщины. – Авт.) приносили и привозили землю из отдаленных мест. Не хватало лопат и другого шанцевого инструмента – землю копали руками! Низкие шалаши, сооруженые зачастую прямо на болоте, служили жалким пристанищем для первых строителей. Сырой и смрадный воздух, недоедание, а порой и голод, изнурительный труд вызывали массовые заболевания. Немец Гюйсен, очевидец сооружения Петропавловской крепости, оставивший подробное описание Петербурга и Kpoншлота в первые годы их существования, писал, что крепость построили «непостижимо скоро». В короткий срок – за полтора месяца – были засыпаны землей стены крепости, укреплены бастионы – раскаты, выступавшие за общую линию крепостных стен. Шесть бастионов, намного увеличивавших площадь обстрела вокруг крепости, были названы в честь соратников Петpa I – Меншикова, Нарышкина, Tpубецкого, Головкина и Зотова: один бастион был назван Царским или Государевым раскатом. К осени на бастионах уже было установлено более 120 пушек. Позднее, начиная с 30 мая 1706 г., земляные бастионы стали заменять каменными.
[Стр. 20] Строили быстро, невиданными по тем временам темпами. Однако какой ценой! «Бедным людям очень трудно пропитаться, так как они употребляют в пищу больше коренья и капусту, хлеба же почти в глаза не видят». Город строился на костях русских людей – солдат и матросов, подкопщиков (землекопов. – Авт.), переведенцев (мастеровых людей, направляемых для работ в принудительном порядке. – Авт.), вольных плотников, немногочисленных коренных жителей этих мест. Счет погибшим не велся… Однако, без сомнения, можно утверждать, что не один десяток тысяч созидателей города остались лежать под быстро разраставшимся городом. 8
Авторы не случайно несколько отклонились от темы. Все начинания Петра I в рассматриваемый исторический период сопровождались крайним угнетением простых людей, требовали от них величайших жертв и самоотверженности, что было под силу только русскому народу. И, отмечая важнейшие достижения петровской эпохи, следует подчеркнуть, что все они являются достойными памятниками тем, кто ценой собственной жизни создавал и укреплял мощь Русского государства в начале XVIII в.
ТАК НАЧИНАЛСЯ КРОНШЛОТ
Подлинным памятником русского мастерства, мужества и умения является также созданная в Финском заливе морская крепость Кронштадт, рождение которой было не случайным.
Петербург строился на глазах у шведов. Русские все время ожидали появления эскадры Нумерса с моря. Для противодействия шведским корабельным пушкам в случае возможного нападения и обороны строящейся крепости на мысу Васильевского острова были установлены орудия. Однако Петр I хорошо понимал, что этого явно недостаточно. Надо было создать иной, более надежный щит строящемуся городу. И такой щит был им найден.
За делами и заботами быстро летело время. Незаметно пришла осень с ее ветрами и дождями, неуклонно приближалась зима. Шведская эскадра под командованием вице-адмирала Нумерса завершала очередную кампанию; но она была нерадостной для него. Он знал: придется держать ответ перед королем за то, что им не были предприняты решительные меры для уничтожения создававшегося русскими города в устье Невы. Если бы адмирал мог знать, что готовит ему русский царь в ближайшем будущем, то, наверное, не поспешил бы уйти с эскадрой в Выборг на зимовку.
В начале октября 1703 г. Петр I совершал небольшое плавание по Ладожскому озеру, совершенствуя навыки управления только что построенным фрегатом «Штандарт» и приобщая к этому важному делу окружавших его людей. Сюда ему доставили письмо А. Д. Меншикова, датированное 4 октября. Начало его ничего важного не содержало. Меншиков писал об изменении погоды («было солнце, а ныне вместо онаго дождь и великие ветры»), просил государя скорее вернуться в Петербург, пока «ветер способный…» Петр, вчитываясь в эти строки, хмурился; он не любил неделовых писем. Чтение их, – как он считал, – пустая трата времени. Вдруг лицо его просветлело. То, что он прочитал в конце письма, было для него дороже самых теплых слов: «…Доношу вашей милости, что г-н вице-адмирал Нуморс (так написана эта фамилия Меншиковым. – Авт.), ко- [стр. 21] торый пред устьем стоял, виват октября 1 отдав, не беспечально о том, что за противным ветром больше кораблей в устье не ввел и так отъехал…»9
Царь быстро оценил значение последних строк письма. И сразу же созрело решение: немедленно выйти в залив к близлежащему острову, осмотреть его, произвести промеры всех глубин, придумать что-то такое, что мешало бы шведским кораблям подходить к устью Невы. Или сейчас или, быть может, никогда… Шведы, потерпев поражение, просто так горькую пилюлю не проглотят. Они постараются в следующую навигацию вернуть «долг» с избытком. А потому время не терпит. Через неделю-другую залив будет скован ледяным панцирем, преодолеть который будет нелегко. А до весны многое можно сделать. И Петр I приказывает направить фрегат «Штандарт» к берегу.
В Петербург он прибыл на собственной яхте. Не мешкая, вышли на ней в залив. С особой тщательностью измеряли глубины. До нас не дошли точные сведения о выполненных промерах, но о том, что сделаны они были весьма тщательно, свидетельствует удачно выбранное место для возведения первого морского фортификационного сооружения. От южного берега Финского залива вплоть до этого места тянется отмель. Здесь судам не пройти. Камни и мели на Северном фарватере делали его также недоступным для прохода кораблей. Оставался Южный фарватер. Но если в конце отмели построить форт, то огонь его орудий надежно перекроет пространство между ним и островом.
Петр I остался доволен результатами похода. По возвращении он поручил Меншикову подготовить все необходимые для строительства материалы, а сам отправился в Воронеж. Оттуда он прислал изготовленную им деревянную модель форта, потребовав немедленно приступить к работам. «Сделав модель крепости, которую делать в море у Котлина острова, – писал Петр в своем «Журнале», – послал с оную губернатора Меншикова (понеже оный при вымеривании того места был), который той же зимы оную и построил…» Действительно, в ту же зиму, как только окреп лед, солдаты полков Ф. С. Толбухина (в некоторых источниках встречаются «Толбугин» и «Толбузин». – Авт.) и П. И. Островского начали рубить ряжи для основания крепости.
Одновременно Петр I позаботился о подготовке квалифицированных кадров для будущего флота и о защитниках Кроншлота. В указе от 22 января 1704 г. он повелел «набрать на Москве и в городах из всяких чинов людей в матросскую службу тысячу человек… жалованья дано будет тем людям на платье по 2 рубли, да годоваго по 12 рублей человеку; да им же во время работы дано ж будет хлеб, соль, мясо и рыба». 11.
Сохранилось всего лишь несколько свидетельств о самом начальном периоде создания форта, причем весьма противоречивых. Так, англичанин Гордон* [* Очевидно, Томас Гордон, перешедший на русскую службу. Командовал кораблями и эскадрами. 7 февраля 1724 г. назначен главным командиром Кронштадтской крепости. В октябре того же года принял в свое ведение каналы и доки по случаю передачи их в Адмиралтейств-коллегию.] свидетельствовал, что «сделали огромный ящик, 10 футов ** [** фут – единица длины в системе русских мер; 1 фут = 1/7 сажени = 12 дюймам = 0,3048м] в вышину, из бревен в 30 футов длиною и 15 вершков *** [*** Вершок – русская мера длины, равная 1 3/4 дюйма (4,45 см). Первоначально равнялась длине фаланги указательного пальца. Сажень – русская мера длины; 1 сажень = 3 аршинам = 7 футам = 2,1366 м.] толщиною и опустили его воду. На этом фундаменте воздвигли трехэтажную деревянную башню: укрепление могло вмещать в себя до 3000 чело- [стр. 22] век гарнизона и до 70 орудий». 12 Эти данные вызывают сомнения. Вряд ли такой форт мог вместить 3000 людей.
Наиболее достоверны и правдоподобны данные, приведенные другим очевидцем описываемых событий – бароном Гизеном: «Крепость Кроншлот имеет сорок косых сажень диаметра и два ряда, один над другим, для ставления пушек…»13 В разных источниках по-разному указывается и количество орудий на форту. Однако принято считать, что их было четырнадцать.
Одним из первых графических изображений Кроншлота является копия чертежа 1747 г. 14 Имеются основания полагать, что именно такой была башня форта в 1704 г. В 1741 г. она ремонтировалась и под нее подвели каменный фундамент, но к 1747 г. башня совсем обветшала, в связи с чем ее разобрали. Были разработаны два проекта восстановления башни Кроншлота: один в прежнем, мазанковом, исполнении на сохранившемся фундаменте, а второй вариант предусматривал строительство каменной башни. Предлагая мазанковый вариант башни, фортификаторы и архитекторы стремились по возможности сохранить первоначальный ее вид. До наших дней дошли два изображения мазанковой башни, отличающиеся друг от друга лишь количеством слуховых окон на крыше, смотровыми площадками и флагштоками. Небольшое различие есть и в конструкции фундамента. [Стр. 23]
Исходя из изложенного, можно предположить, что размеры башни на чертеже 1747 г. соответствуют размерам башни 1704 г. Что же представляло собой первоначально это деревянное сооружение? Фундаментом форта служили ящики-ряжи, рубленные из бревен и загруженные камнями.
Почти на 1,5 м выше ординара возвышался сплошной настил из бревен, уложенный по верхним венцам ряжевых ящиков. На нем располагались конструкции трехъярусной башни, в плане представляющей равносторонний десятигранник. Наибольшая ширина первого яруса составляла около 29 м, а длина каждой его грани приближалась к 9 м. Все стороны этого яруса, кроме одной, где располагался вход в башню, имели по одной амбразуре для пушек. На втором и третьем ярусах в каждой стороне находились по две орудийные амбразуры, а максимальная ширина башни немного превышала 25 м. Основание башни защитили от воздействия льда и волн ряжами, заполненными камнем, названными «быками».
Стены башни были выполнены в виде деревянного каркаса, заполненного глиной, смешанной с измельченной соломой и песком. Толщина их достигала полутора метров. Башня завершалась шатровой крышей со смотровой площадкой, фонарем и флагштоком. Высота башни от ординара до верхушки флагштока была 36,57 м. Расчеты показали, что общая полезная площадь башни составляла менее 1300 м2; это говорит о том, что 3000 солдат в ней разместить было невозможно.
Известно, что в 1749 г. Сенат одобрил вариант башни Кроншлота в каменном исполнении. С 1753 по 1756 г. велись работы по устройству нового каменного фундамента башни, но к моменту его окончания проект снова был пересмотрен. Согласно вновь утвержденному проекту, требовалось прежде всего переделать фундамент. Однако на это уже не хватало ни сил, ни ассигнований. А потому воссоздание башни Кроншлота так и не состоялось.
Петр I посетил Кроншлот 7 мая 1704 г. Вместе с новгородским митрополитом и окружавшей его свитой oн пересек на судах восточную часть залива и благополучно достиг форта. В тот же день состоялось его освящение «…Тогда наречена оная крепость Кроншлот, сиречь коронный замок, – писал Петр в своем «Журнале», – и торжество в ней было трехдневное». 16
Коменданту крепости была вручена инструкция по использованию артилле- [стр. 24] рии форта, ритуалу встречи судов и другим вопросам – первое своеобразное руководство для этого форта. Она наглядно отражала те задачи, которые решал форт в начале XVIII в.
Исходя из этого, авторы считают необходимым привести полностью ее основные положения:
«1. Содержать сию ситадель с Божиею помощью аще случится хотя до последняго человека и когда неприятель захочет пробиться мимо оной, тогда стрелять, когда подойдет ближе, и не спешить стрельбою, но так стрелять, чтобы по выстрелянии последней пушки первая паки была готова и чтоб ядер даром не тратить.
2. Когда явятся нейтральные корабли под своими знамены (котораго государства ни есть) и учнут приближаться к крепости, тогда в такой дистанции как мочно достать ядром стрелять без ядра, чтобы парусы опустил и якорь бросил; и буде онаго не послушает, то, мало погодя, стрелить ядро мимо корабля; и если того не послушает, то, дождався, стрелять как по неприятелю. Надлежит же разуметь, чтобы от перваго выстрела до второго с небольшую четверть было времени, дабы мог успеть якорь бросить.
3. А буде бросить якорь и приедет с котораго корабля к ситадели в шлюпке шкипер * [* Шкипер (шхипер) – датское skipper – корабельщик – младший офицерский чин, отвечающий за порядок и хозяйство на корабле.] и его и с ним будучих всех удержать за караулом честно; а тем временем послать от ситадели кого ж в шлюпках и велеть на корабле осмотреть везде и под нижнею палубою, нет ли каких людей тайно скрытых, также и оружия и иных всяких припасов; и когда не найдется противнаго, отпустить оных и велеть иттить, придав лоцманов. А покамест с корабля в шлюпке к ситадели кто не приедет, то прежде от себя на корабль никого не посылать.
4. Когда который корабль пойдет мимо ситадели, тогда надобно ему спустить по обыкновению формалстейль или гротмалстейль вместо поклона; а буде есть вымпел, подобрать, пока пройдет ситадель; а из ситадели стрелять против их двумя пушками менее. И о сем, о прибирании вымпела и о спускании парусов, говорить им, как они приедут к ситадели.
5. Зело надлежит стеречься неприятельских брандеров; а различие их от прочих кораблей: имеют на сопцах (ноки) райн по два крюка, как здесь изображено. Также и своего огня подобает опасатись, множества ради дерева». 17 [Стр. 25]
ПЕРВЫЕ СРАЖЕНИЯ У КРОНШЛОТА
Вскоре, как и предполагал Петр, коменданту Кроншлота пришлось применить инструкцию на практике. Уже 12 июня 1704 г. на горизонте показались паруса шведских кораблей. Эскадра вице-адмирала Депру (встречаются иные написания этой фамилии: де Пру, де Проу, Пру) состояла из одного линейного корабля, пяти фрегатов и восьми небольших судов. Она должна была оказать поддержку с моря восьмитысячному корпусу генерала Майделя, решившего атаковать Петербург с суши. Однако тщетным оказалось стремление шведов вернуть утраченную славу. Майдель потерпел неудачу на суше, а Депру – на море. Отчаянная попытка шведских кораблей прорваться сквозь огонь орудий с Кроншлота и батареи с острова провалилась. Не сумев прорваться к Петербургу мимо Кроншлота, шведы решили высадить десант на остров, но и здесь их ждала неудача. Двое суток бомбардировали они форт, «но ни единая бомба в Кроншлот не попала, понеже та крепость малая, а шведские бомбардирские корабли стояли в дальнем разстоянии (такое написание в документе. – Авт.), и невозможно никаким образом бомбам с корабля в него трафить (попасть. – Авт.)» 18
Поражения у стен Петербурга и Кроншлота заставили шведского короля Карла XII заново осмыслить события в восточной части Финского залива. Он понял, что недооценил русских, упустил инициативу и теперь ему надо принять самые серьезные и безотлагательные меры к захвату построенных укреплений. Имея мощный по тем временам флот, состоявший из 38 кораблей с 2500 орудиями на борту, и много небольших судов, он сразу, однако, в силу различных причин не мог использовать его против рождавшегося русского флота, не мог воспрепятствовать расширению влияния опасного соседа на побережье залива.
С ранней весны 1705 г. велась интенсивная подготовка к новому походу. Снаряжая эскадру, число кораблей которой достигло уже 22 единиц, король Карл XII ставил перед адмиралом Анкерштерном весьма трудноосуществи- [стр. 26] мую цель – во что бы то ни стало захватить Петербург, сровнять его с землей, а Кроншлот разбомбить ядрами.
Но и Петр I, и командующий молодым Балтийским флотом вице-адмирал К. И. Крюйс (в некоторых документах «Крейс». – Авт.) понимали, что предстоит упорная и жестокая борьба с сильным и коварным противником. Уже в начале мая 1705 г. последний пишет письмо государю, в котором спрашивает, «идти ли до Кроншлота для случая обороны» 19 , и предлагает выслать часть судов в море для ведения разведки за противником: «Також позволишь ли Государь, чтоб в июле и августе галеру, шняву или бригантину для ведомости выслать, чтоб про неприятеля проведать, також, как далеко оным судам за твои порубежные места ходить?» 20
Ответ последовал незамедлительно. Флот вышел в залив и расположился у Кроншлота. 24 мая туда же прибыл и Крюйс. Крепость салютовала ему семью выстрелами. Начались приготовления к бою. На военном совете решили вместе с капитанами судов и другими офицерами произвести рекогносцировку о. Котлин, чтобы найти наиболее тактически удобное место для размещения батареи. Такое место было найдено на южной стороне острова на северо-запад от Кроншлота. Строительство батареи было поручено сыну вице-адмирала – командиру шнявы «Де-Гас» Ивану Крюйсу. 1 июня на новой батарее уже были установлены орудия. К концу лета 1705 г. на острове имелось пять батарей: Александровская, Толбухина и Островского – в западной его части, Ивановская (Св. Яна или Сант-Яна. – Авт.) и Лесная (позднее Петровская) – на южном его берегу, напротив Кроншлота. Батареи эти были усилены орудиями, снятыми с кораблей.
Военный совет принял также меры по отражению возможных атак вражеских брандеров: к западу от Кроншлота были установлены плавучие рогатки; корабли расположили в три линии так, чтобы наиболее эффективно использовать корабельные орудия, число которых достигло 272. Всего на кораблях насчитывалось 2174 человека.21
На рассвете 4 июня 1705 г. с высланных вперед шняв «Св. Яким» и «Де-Гас» заметили приближающуюся вражескую эскадру. Сразу же подали условный сигнал в Кроншлот. Выполнив свою задачу, шнявы заняли отведенные им у острова места. Вскоре и наблюдатели с башни крепости доложили К. И. Крюйсу о том, что на них движется эскадра в 22 вымпела. Согласно принятым в то время правилам, авангард вел вице-адмирал Депру, адмирал Анкерштерн – кордебаталию (центр), а контр-адмирал Шпар – арьергард. В седьмом часу утра шведская эскадра приблизилась к острову. Адмирал Анкерштерн подал сигнал о перестроении всех судов в «линию баталии». Шведы решили главный удар направить на батареи острова, захватить их, а затем напасть на Кроншлот. Однако К. И. Крюйс разгадал их коварный замысел. Пользуясь тем, что противник пока не начинал активных боевых действий, он усилил островные батареи, как упоминалось выше, корабельными орудиями.
6 июня, разделив шведскую эскадру на три части, адмирал Анкерштерн приказал сниматься с якоря и начать атаку. Корабли под его водительством повернули стволы своих орудий в сторону батареи Св. Яна (Ивановской. – Авт.) и западного фланга русского флота. Корабли вице-адмирала Депру заняли позицию против Кроншлота и южного фланга русского флота. Арьергард под командованием контр-адмирала Шпара атаковал батарею Толбухина, и после интенсивного обстрела шведам удалось высадить на остров десант. Однако решительной контратакой русские солда- [стр. 27] ты отбросили противника в залив, при этом шведы понесли большие потери: около 300 человек были убиты, а 2 офицера и 29 солдат взяты в плен; 9 шлюпок были разбиты.
Как выяснилось позднее, командующий шведской эскадрой не отважился идти фарватером между Кроншлотоми островом, так как принял вехи за мачты затопленных кораблей. Опасения его были совершенно справедливы: невозможность маневрирования и ведения прицельного огня вскоре нарушила бы боевой порядок кораблей эскадры и превратила бы их в плавучие мишени для русских орудий.
Правильно определив направление главного удара, К. И. Крюйс сразу же после сражения обратился за помощью к обер-коменданту Петербурга генерал-майору Р. В. Брюсу. Сообщая о происшедших событиях, он писал: «... здесь довольно есть куражу или смельства, но есть токмо недостаток в способах. Ежели б я еще шесть добрых 18-фунтовых пушек да две гаубицы на моих батареях имел, то чаял бы неприятелю принудить вскоре от бомбардирования своего престать». 22 Просьба Крюйса была удовлетворена. Уже 7 июня он получил две мортиры и две 18-фунтовые пушки, которые установили на Ивановской батарее, а 9 июня из Петербурга доставили еще шесть больших пушек и две мортиры.
Пленные шведские офицеры рассказали, что адмирал Анкерштерн был аб- [стр. 28] солютно уверен в благоприятном исходе сражения. Еще перед выходом эскадры в море он и генерал Майдель, командовавший восьмитысячным шведским отрядом, поклялись встретиться и чествовать друг друга в Петербурге 4 июня.
Наступило утро 10 июня, а Кроншлот стоял неприступной преградой на пути шведов. Поэтому они решили повторить атаку. На сей раз корабли под водительством Депру бросили якоря напротив Кроншлота, Анкерштерна – у острова, а Шпара – против Лесной батареи. Началась артиллерийская дуэль. Основной огонь шведы сосредоточили на фрегате «Дефам», на котором держал свой флаг командующий флотом вице-адмирал Крюйс. Однако шведские артиллеристы меткостью не отличались. Их бомбы или не долетали, или перелетали через русские корабли, не нанося им никакого урона. Видя, что стрельба ведется бесцельно, шведский адмирал приказал перенести огонь на Кроншлот. Но и здесь достичь желаемого результата не удалось. Русские артиллеристы были более меткими. «Неприятель нашим бомбам честь воздал, – писал Крюйс, – для того от острова Ричарта (Котлина) отстал». «…Мне случилось своими очами видеть, как щепы от бомбардирских их судов вверх летели». 23
О последующих наиболее важных событиях у Кроншлота весьма кратко рассказано в «Журнале» Петра I. Ввиду их лаконичности и достоверности считаем необходимым привести их дословно:
«
Июль.
В 15-й день, т. е. в неделю, но ведомости, что сего июля 14-го числа поутру явились шведский флот, 25 кораблей, и с тех кораблей начали по нашим батареям, которыя построены были на острове, стрелять и бомбы бросать до полудня; и с полудня они, шведы в лодках 1630 человек, хотели пристать на берег, чтоб им взять батареи приступом, и недошед за милю стали. Наших полков Гамонтова да Микешина солдаты, не утерпя, начали палить залпом и их неприятелей побили 300 человек; взято живьем: 1 капитан, 1 поручик, 1 квартермейстер, рядовых 25 человек…
Август.
В 18-й день явился шведский флот, и посыланы были наших 7 галер в 19-й день и был великий бой с 3-го часа; и за погодою галеры поворотились назад, а корабль в море…
Октябрь
. В 7-й день господин вице-адмирал со своим флотом пришел в Пе- [стр. 29] тербург и стали на зимовье; было много с кораблей стрельбы и с города». 24
Итак, завершилась кампания 1705 г. Происшедшие события показали, что Крошлот и батареи на о. Котлин стали серьезным препятствием на пути врага к Петербургу. Русские моряки и солдаты с честью выполнили свой долг, мужественно сражаясь со шведами. Вместе с тем стало ясно, что флот в данной кампании осуществлял по сути дела лишь оборонительные задачи. Он не вел активных наступательных действий, так как опасался отойти от Кроншлота и оставить фарватер без защиты.
Докладывая о результатах боевых действий государю, вице-адмирал Крюйс рекомендовал дополнительно укрепить Котлин и освободить таким образом флот от обороны устья Невы. Так, еще 16 июня 1705 г. он писал Петру I: «…не худо б было, чтоб Кроншлоту или близ его еще какую крепость сделать…»25 Крюйс предлагал создать на Котлинской косе крепость с гарнизоном в 1500 человек, которая стала бы серьезной преградой врагу при попытке высадить десант и захватить батареи. К тому же она стала бы местом для постоянной дислокации гарнизона.
ВОЗВЕДЕНИЕ НА о. КОТЛИН КРЕПОСТИ «СВ. АЛЕКСАНДР».
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ЖИЗНИ СТРОИТЕЛЕЙ.
ПЕРЕСТРОЙКА ИВАНОВСКОЙ БАТАРЕИ
Первоначально Петр I почему-то не одобрил предложения Крюйса. Однако через год он в спешном порядке приказал построить на месте Толбухинской батареи крепость «Св. Александр» («Александр-шанец»). Она представляла собой замкнутое укрепление с бастионами. Вот как ее описывает историк А. Шолов: «Фронты ея были расположены на полигонах в 80 саж., вал имел командование (превышение. – Авт.) 14 ф., рва сначала не было. Вооружение состояло из 40 орудий крупнаго калибра, т. е. 18-и 24-фн. пушек и нескольких 3-пуд. мортир». 26
Крепость строили солдаты Сухопутного ведомства под руководством полковника Ф. С. Толбухина. Летом 1706 г. работы в основном были закончены. В связи с этим Петр I писал Меншикову: «крепость Св. Александра также в совершенство приходит, уже казармы делают и прочие жилища». 27 Длительное время она являлась главным оборонительным сооружением на острове. Сюда даже была привезена в разобранном виде срубленная на Олонецкой верфи церковь.
К первым строителям Кронштадтской крепости можно отнести и англичанина Эдварда (Идверда) Лейна (Лайна). Он был принят Петром I на русскую службу в 1702 г. Ему было присвоено морское звание «поручик», что соответствовало армейскому званию «капитан». Учитывая глубокие познания Лейна в области строительства каналов, царь поручил ему в 1713–1714 гг. наблюдать за постройкой первой гавани на о. Котлин. С этого времени и до последних своих дней (8 июня 1729 г.) Эдвард Лейн успешно воплощал в жизнь грандиозные планы русского императора на Котлине. Здесь же 1 января 1715 г. «за особливую его службу у гаванского дела» он был произведен в капитаны первого ранга. Он руководил постройкой гавани у Кроншлота, а с 1716 по 1719 г. – Военной гавани и канала на самом острове. В следующем, 1720 г., помимо гаваней, он занимался строительством батарей, от- [стр. 30] давая все свои силы, знания и опыт укреплению морских рубежей страны, ставшей ему второй родиной. Петр I высоко ценил рвение и усердие талантливого строителя. 22 октября 1721 г. царским указом Лейн был произведен в капитан-командоры, одно из самых высоких морских званий того времени. Редко кому удавалось дослужиться до таких чинов.
О всесторонней одаренности Лейна свидетельствует и то, что именно ему было поручено построить маяк на западной оконечности о. Котлин, вместе с другими архитекторами участвовать в планировке улиц Кронштадта, наблюдать за устройством канала и доков в крепости. 1 января 1724 г. за «многие труды при канальном, гаванном и городовом деле» велено было выдать Лейну сверх окладного жалованья еще 600 рублей.
Горька была доля создателей Кроншлота и первых построек на о. Котлин. Кровью и потом зарабатывался солдатский хлеб. Помимо изнурительных работ, солдаты и матросы учились стрельбе и отражению десантов. За малейшую трудовую или воинскую провинность незамедлительно следовало наказание. А наказания в ту пору были весьма суровы и жестоки. Так, однажды К. И. Крюйс обратил внимание на то, что «нижние чины» плохо одеты. Тут же он приказал офицерам удержать с них жалованье за три месяца и на эти деньги купить им новую форму. Тот же Крюйс стал одним из авторов первого на флоте военного уголовного кодекса, в котором были определены виды проступков и меры наказания. Наказания эти были очень строги. За такие проступки, как «покидание судна и отлучка без позволения», «угроза начальнику словом или делом», «отказ от службы раньше получения отставки (паса)», «сопротивление распоряжениям начальства», «бегство со службы после присяги», «продажа артиллерийских и корабельных припасов», «возмущение и недонесение о возмущении по начальству», «неявление на судно, когда он снимается», «отказ участвовать в cражении», «за третью кражу», «грабеж взятых у неприятеля судов», «скрытие пленного», – полагалась смертная казнь. 28
За менее значительные проступки провинившиеся подвергались «купанию с райны» (реи. – Авт.), «проволакиванию под килем», «битью у мачты». При «купании с райны» наказуемого на гордене поднимали к ноку реи, а затем, отдав гордень, окунали в воду. При «проволакивании под килем» наказуемый привязывался к горденю, который пропускался через блоки. Травя (отпуская. – Авт.) гордень с одной стороны и выбирая с другой, его протаскивали под килем. Многие историки полагают, что к голове и ногам наказуемого привязывали груз; иначе он при трении и удаpax об обшивку и киль судна получал бы серьезные, а может быть, даже смертельные раны. Бывали случаи, когда после «протаскивания под килем» виновный подвергался еще и «битью у мачты» в присутствии всего экипажа. Этот варварский способ наказания матросов был заимствован из голландского морского законодательства. 29 Правда, нужно отметить, что прибегали к нему крайне редко.
Предусматривались также еще более жестокие наказания. Например, за обнажение ножа со злым умыслом полагалось: «тот нож через руку при мачте прободен да будет и так долго при том стоять имеет, покамест он (преступник) нож через руку протянет». Другое наказание состояло в отсечении руки тому, «кто… на корабле драться станет». 30
Высокие требования предъявлялись и к дворянству. Петр I не только не освобождал дворян от службы, но и уста- [стр. 31] новил для них различные повинности и строгий порядок их поведения, стремясь воспитать из них энергичных государственных деятелей, военачальников, флотоводцев. Одной из дворянских повинностей была учеба. Учиться дворянские дети начинали с девяти лет в специальных школах. Учеба продолжалась до 15 лет. По истечении этого срока каждый дворянский сын обязан был идти служить.
Специальными указами Петра I предусматривалось, чтобы при приеме на службу родовитость во внимание не принималась и на ее прохождении не отражалась. Тем, кто не мог одолеть несложный курс наук, не выдавалась «венечная паметь» – разрешение на женитьбу.
Еще в 1704 г. Петр I сам распределял детей «знатных самых персон» на службу; при этом 500–600 молодых князей Голицыных, Черкасских, Хованских, Лобановых-Ростовских и других родов из 8 тысяч родовитых детей, с которыми ознакомился царь, были расписаны солдатами в гвардейские полки. Многим из них пришлось наравне с простолюдинами возводить и укреплять Кроншлот и новые батареи на Котлине.
При строительстве военных сооружений, учитывая недостаток времени, особое внимание уделялось организации труда. Интересен в этом отношении приказ Крюйса офицерам – руководителям работ, состоявший из девяти пунктов:
«1. За четверть часа до начала работ проверить всех наличных людей.
2. Каждый офицер должен иметь рабочую тетрадь, в которой записывается, на какия работы люди разведены бывают.
3. С вечера должен знать каждый офицер, какия предстоят ему на завтра работы, для распределения по оным людей.
4. С семи часов до половины восьмаго завтрак, с одиннадцати до часу обед, а вечерняя работа до захождения солнца. Каждый срок обозначается тремя мушкетными выстрелами, а во время отдыха поднимается белый флаг.
5. Никто из обер- и унтер-офицеров не должен подчиненных ему матросов и солдат бить рукою или палкой, но следует таковых, в случае потребности, наказывать при малой вине концом веревки толщиною от 21 до 24 прядей (каболок?), а за бoльшую вину наказывать по суду согласно уложению.
6. Каждый командующий кораблем и заведывающий какой-либо частью должны все исправить в гавани, чтобы впоследствии ничего не требовать.
7. Снабдить суда всеми тросами, перлинями и швартовами.
8. В случае надобности брать что из магазинов, должны обращаться к капитану Грею от шести с половиною до девяти часов и после обеда от трех до пяти часов.
9. Сержанты и капралы должны быть первые на местах, для получения приказаний от командующих офицеров». 31
Суровые меры, предпринимаемые для укрепления дисциплины и обеспечения четкой организации работ, были вполне объяснимы. Шведы никак не хотели признать, что устье Невы окончательно и бесповоротно потеряно для них. Их флот продолжал крейсировать вблизи русских берегов, ожидая удобного момента для нанесения удара, а потому русские корабли вынуждены были находиться у Кроншлота в постоянной готовности к отражению нападения. Поэтому для строителей дорог был каждый день. Немного времени отводилось им для выполнения всех намеченных работ, особенно в первые годы, когда большую часть весны, лета и осени приходилось отражать попытки шведского флота захватить русскую крепость. Вот [стр. 32] почему корабли Балтийского флота не поднимали якорей и не уходили в Петербург до тех пор, пока Нева не покрывалась первым льдом. Это видно из указаний Петра I вице-адмиралу Крюйсу. В своем письме от 1 октября 1706 г. командующий флотом писал, что «…сентября в 28 день видели мы в море 3 неприятельских фрегата, только были близ в 20 верстах, и они тогда ж все поворотили назад, а после того никаких не видали; сего октября в 3 день хочу я… по указу со флотою, которая еще состоит в 17 кораблях, отсель идти, ежели еще я какого… указу не получу». 33 Петр I, получив это известие о шведских кораблях, незамедлительно ответил: «…не хуже нашему флоту… при Кроншлоте стоящему еще некоторое время на море побыть, хотя б до половины сего месяца, или оставить из них 10 кораблей, и над ними добраго командира, для того чтоб неприятель не так смело поступал и диверсии б не учинил…»33
И еще одно обстоятельство задерживало возвращение флота в Петербург. Необходимо было закончить строительство равелина, по-видимому служившего первой пристанью на о. Котлин напротив Кроншлота. Только 15 октября работы эти были завершены. «Равелин с нортнаго конца мосту кругом обставлен рогатками и на нем 8 пушек и совсем готов». 34
Реалистическая оценка событий, понимание важности возведенной в заливе крепости требовали принятия неотложных мер для того, чтобы с первым ледоходом русские корабли вновь отправились на ответственный рубеж для усиления Кроншлота. Уже в декабре в ответ на предложения Крюйса об увеличении мощи флота Петр I приказывает, «чтобы за льдом, … флот конечно вышел», заранее выделить для ремонта батарей Сант-Яна (Ивановской. – Авт.) «250 человек, половину с топорами», «400 бревен для батарей взять у обер-коменданта» (Р. В. Брюса. – Авт.). Для установки перед Кроншлотом одного или двух рядов рогаток он дает указание с «1-го февраля… послать галерных… 400 человек». 35
С завершением строительства крепости «Св. Александр» начались интенсивные работы по перестройке Ивановской батареи. В первую очередь было решено переоборудовать старую позицию, усилив ее огневую мощь. Реконструированная батарея была вооружена шестнадцатью пушками. Вскоре рядом с перестроенной батареей выросла новая, которая была соединена с прежней батареей. Мощное укрепление имело на вооружении к 12 мая 1707 г. пятнадцать 24-фунтовых и двенадцать 18-фунтовых орудий.
Таким образом, к подходу Балтийского флота к Кроншлоту весной 1707 г. остров был значительно укреплен и орудиями, и личным составом. Однако кампания этого года оказалась на редкость спокойной. Лишь дважды шведские корабли подходили к острову. 10 мая шесть вражеских кораблей приблизились к русским укреплениям, очевидно, с разведывательными целями. Увидев высланные им навстречу восемь русских кораблей и один брандер, они не осмелились вступить в бой, а, воспользовавшись попутным ветром, ушли поближе к своим берегам. Вторично только 30 октября русские увидели неприятельское судно, которое, подойдя к Кроншлоту, выстрелило из двух орудий с большим недолетом и поспешило скрыться. [Стр. 33]
ПОБЕДЫ НАД ШВЕДАМИ.
РАСШИРЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА КОТЛИНЕ.
СОСТОЯНИЕ КРЕПОСТИ К 1712 г.
Как это ни парадоксально, Петр I окончательно утвердился в мысли о том, что завоевания в устье Невы станут непоколебимы после победы над шведами не под стенами молодой столицы, а у далекого города на юге страны – Полтавы. Успешные действия русской армии в Прибалтике привели к тому, что часть шведских войск в Финляндии оказалась отрезанной от войск, занимавших Эстляндию, и от армии самого Карла XII, чьи отряды продолжали вести боевые действия против польского короля Августа II в Польше.
Одержав верх над польскими войсками, Карл XII бросил свои основные силы против русских. 3 апреля 1709 г. шведы подошли к Полтаве. Многочисленный гарнизон города, возглавляемый полковником А. С. Келиным, совместно с вооруженными жителями упорно отбивал атаки врага, ожидая подхода основных сил русской армии. В начале мая войска под командованием А. Д. Меншикова пришли на подмогу оборонявшимся. 4 июня к войскам прибыл и Петр I. На военном совете было решено дать врагу решающий бой утром 27 июня. «Полтавская баталия» завершилась полным разгромом шведов. Они потеряли только убитыми 9234 человека. Около 20 тысяч неприятельских солдат попали в плен. Потери русских войск составили 1345 убитыми и 3290 человек ранеными. Как считал Петр I, победа досталась «легким трудом и малой кровью».
В Полтавском сражении русские воины проявили не только подлинный героизм и самоотверженность, но и высокий гуманизм по отношению к пленным. Немало надо было приложить усилий к тому, чтобы не только разместить 20 тысяч пленных шведских солдат, но и одеть, а главным образом накормить их. Уважительное отношение к пленным являлось незыблемой традицией русской армии с первых лет ее создания. Так, еще 16 сентября 1705 г. Крюйс докладывал царю, что получил письмо от шведского адмирала Анкерштерна, в котором он благодарит за хорошее обращение с пленными.
Об этом же свидетельствует донесение чрезвычайного посланника в Москве Витворта своему правительству в мае того же года.
«Как-то Петру доложили, – пишет Витворт, – что в кампанию 1704 г. шведы захватили в плен, вместе с саксонцами, 45 человек русских, отрезали им по два пальца на правой руке и отпустили на родину. Глубоко взволнованный таким поступком, царь публично заявил, что хотя шведы и стараются выставить его и русский народ варварами и плохими христианами, он может призвать весь мир и преимущественно тысячи шведов, находящихся в плену в России, свидетелями, что никогда, ни с одним из неприятелей не обращался так недостойно. Он прибавил, что бедных солдат ему, конечно, жаль; но поступок шведов выгоден для него: он намерен зачислить в каждый полк по одному из пострадавших, как живой образец товарищам, что можно ожидать от беспощадного врага в случае плена или поражения». 36
По окончании Полтавского сражения Петр I писал генерал-адмиралу * [* Генерал-адмирал – высшее воинское звание в отечественном Военно-Морском Флоте с 1708 по 1908 г., соответствовавшее званию генерал-фельдмаршала в сухопутных войсках.] [стр. 34] Ф. М. Апраксину: «Ныне уже совершенный камень в основании Петербургу положен». 37
Еще двенадцать лет не прекращались боевые действия со Швецией, но окончательный их исход был уже предрешен. «…Карл XII сделал попытку вторгнуться в Россию; этим он погубил Швецию и воочию показал неприступность России» 38, – писал Ф. Энгельс.
После победы под Полтавой Петр I получил возможность все основные силы перебросить на север для укрепления о. Котлин. Прежде всего надо было подумать об организации зимовки флота, т. е. о создании удобных, защищенных гаваней и пристаней для кораблей. Из-за малых глубин в восточной части Финского залива корабли поздней осенью вынуждены были оставлять на острове каменный балласт и с попутным ветром, способствующим подъему уровня воды в заливе и устье Невы, идти на зимовку в Петербургскую гавань.
Согласно распоряжениям Петра I, в ноябре 1709 г. приступили к строительству на острове пристани и магазинов (складов. – Авт.). Тысячи людей собирали и обрабатывали камни, рубили лес, забивали сваи. К следующему году пристань была готова. Но она имела серьезный недостаток – не далеко вдавалась в море. Поэтому лишь небольшое количество кораблей, причем только с малой осадкой, могло к ней подойти.
Несмотря на то что главные силы русской армии и флота в 1710 г. были заняты осадой и взятием Выборга, на Котлине работы не прекращались. Солдаты полковника П. И. Островского восстанавливали быки у Кроншлота. А полковник Ф. С. Толбухин возглавил работы по приведению в порядок батарей. Но главные усилия были направлены на переоборудование пристани. 30 июня 1711 г. светлейший князь А. Д. Меншиков сообщил Петру I о проделанной работе: «…Которая пристань старая у Котлина острова была и к той прошлой зимы еще мы пристроили, власно как ведали нынешнюю засуху, ибо ныне старая пристань вся осушилась, понеже так ныне вода была мала и вывод кораблям зело был отсюда труден, ибо пока не прибыло воды, то только одну тартанку (небольшое одномачтовое каботажное судно. – Авт.) и ту не без труда вывели, а каким образом нынешняя пристань сделана, тому чертеж при сем посылаю и, как Бог даст, совсем отделается, чаю вашей милости будет угодна, понеже не без нужды не токмо торговым судам, но и кораблям приставать можно в самом том месте, где батарея, на 18 футов сваи биты и батарея на той пристани сделана от Кроншлота саженях во 100, а делана таким же образом, как Кроншлот, и поставлено на оной 12 пушек 12-ти фунтовых и 2 шмаговицы» 39 (старинное название огнестрельного оружия. – Авт.).
Таким образом, как видно из письма Меншикова, на острове, помимо уже существовавших укреплений, напротив форта в 1711 г. появилось новое фортификационное сооружение.
В середине января 1712 г. был обнародован именной указ Петра I о выделении из учрежденных в 1708 г. губерний 3 тысяч человек для «строения на Котлине острове фортеции и жилья». 40 Согласно этому указу Московская губерния должна была выделить 1163 человека, Архангелогородская – 485, Азовская – 197, Киевская – 132, Смоленская – 237, Казанская – 550, Сибирская – 236. Годовой оклад каждому человеку был определен в 10 рублей. Одновременно с работными людьми указ предписывал «объявить шляхетским 1000 домам, купецким лучшим 500, средним 500 же, рукомесленным всяких дел 1000 домам (из которых половина те, которые заводы имеют, яко кожевники и проч.), что им жить на Котлине острове по скончании сей вой- [стр. 35] ны, и даны им будут дворы готовые за их деньги, а шляхетству дворы и земли под деревни (последнее без денег)…» 41
Принятые меры показывают, что Петр I твердо решил приступить к созданию на острове настоящего города, причем строить его строго по регламенту (плану. – Авт.). С этой целью он распорядился привлечь к планировке города хорошего архитектора, «чтоб оному осмотреть Котлин остров и учинить чертеж, как быть строению, и когда он… явится… приказать Котлин остров для учинения чертежа ему объявить». 42
Очевидно, речь шла о талантливом фортификаторе, градостроителе и архитекторе Доменико Трезини, для которого Россия стала второй родиной. Он родился в 1670 г. в Швейцарии, в селении Астапо Тессинского кантона, недалеко от г. Лугано. Начальные навыки архитектора Трезини получил в местной академии, знаменитой своими выдающимися воспитанниками, такими, как Д. М. Фонтана, Д. И. Висконти, Д. И. Жилярди и многими другими мастерами. Затем он учился в Италии, а потом в течение четырех лет работал в Дании при дворе короля Фридриха IV, который был не только союзником Петра I в борьбе со Швецией, но и его личным другом. Датский король удовлетворил просьбу Трезини о переходе на русскую службу, и 1 апреля 1703 г. архитектор подписал договор, согласно которому он обязывался проработать в России один год. Не мог тогда предположить Доменико, что до конца своей жизни он останется и будет трудиться в загадочной для него России. Здесь он станет именоваться Андреем Петровичем Трезиным. Первым сооружением фортификатора Трезини после прибытия в Петербург из Москвы весной 1703 г. стал форт «Кроншлот». Ему принадлежит архитектурная разработка первого форта на искусственном острове. Имеются основания полагать, что именно он составил чертеж будущего форта, по которому Петр I в Воронеже изготовил его модель.
«Российскими Дарданеллами» называли современники укрепления строящейся крепости, которыми Трезини занимался почти три десятилетия, сначала в дереве, а затем в камне. Он участвовал в создании форта «Новый Кроншлот». «…Договорились с архитектором Трезиным сделать в Кроншлоте в верхнем, среднем и нижнем жильях в тридцати четырех потолки и полы», 42 – записано в протоколе Канцелярии от строений 14 июля 1719 г. В 20-х годах XVIII в. в период укрепления гавани он строил пороховые погреба и доки, прокладывал каналы. До 1729 г. Трезини отдавал все свои силы и талант сооружению крепости в Финском заливе, ставшей неприступным бастионом для врага на пути к строившейся столице на Неве.
Однако осуществить задуманное в те годы было довольно сложно. Простые люди, не говоря уже о знатных, со страхом ожидали указаний об их отправке на далекий, оторванный от всего мира остров. Вопросами переселения дворян занимался Сенат, купцов – Коммерц-коллегия, ремесленников – Мануфактур-коллегия. Многие под большим нажимом, под угрозой наказания оставляли свои вотчины в глубине России и отправлялись на о. Котлин, где, по высказыванию одного из современников Петра I, жизнь была хуже ада. Многие же, простившись с родным кровом, уходили в леса, подавались в более спокойные места. По этим и иным причинам к середине осени 1712 г. из намеченных трех тысяч строителей Котлина, по докладу генерал-адмирала Ф. М. Апраксина, прибыло «1840 человек; на них денег 16 805 рублей; недослано людей 1160, денег 13194 рублей». 43
[Стр. 36] Немалые трудности представляла также заготовка строительных материалов. Лесные запасы острова были крайне скудны, а потому островной лес в основном использовали только для ремонта кораблей, причем его расходовали лишь в крайних случаях и очень экономно. Лес для строительства доставляли с большими трудностями из Санкт-Петербурга, в связи с чем счет бревен вели даже не десятками, а единицами. Несвоевременные поставки строительных материалов зачастую нарушали намеченные планы, что незамедлительно вызывало гнев Петра I. «По ныне еще ни одного бревна казарм на берег не привезено, – пишет с тревогой и обидой вице-адмирал К. И. Крюйс графу Ф. М. Апраксину в письме от 14 июля 1712 г. – Я добрыми словами Толбухина и Островскаго просил, чтоб свозили, но ничего не помогло, токмо могут свои деревни на обеих сторонах строить и купечество чрез своих солдат держать». 44
Из военных сооружений 1712 г. особое внимание уделялось Котлинской гавани и ее усилению с севера. К сожалению, подробных сведений о строительстве укрепления не сохранилось. Краткое его описание содержится в письме Крюйса Апраксину от 1 июля 1712 г.: «Чертеж новому шанцу, кругом новопостроенных каменных палат, мню, что по мысли Е. Ц. В. (Его Царского Величества. – Авт.) определен…, – говорится в письме. – Сию работу лучше зачать в нынешнее сухое время, то спасет нам треть людей, я как возможно крайне с г. капитаном Лейном разсудил, что надобно нам к сей работе 500 человек работных людей, 500 средней руки бревен на рогатки и на мост под пушки, 3000 досок в 3 и 4 сажени длиною, толщиною в 2 и в 3 дюйма; из сего лесу не может напрасно ничего истратиться, понеже годится и к гавани; шанц не может меньше быть как чертеж, разве государев погреб снять, и от того может 100 человек работных людей в прибыли быть к прочим работам.
На оную крепость можно будет поставить 40 или 48 пушек, около может быть ров шириною в 12 и 14 футов, глубиною в 5 и в 6 футов, впрочем как надлежит утвердим, что за Божиею помощью можно стоять от 10 000 человек от непрятелей отпор чинить». 45
Исходя из изложенного, можно предположить, что новое укрепление, прикрывавшее гавань с севера, представляло собой довольно мощное и грозное сооружение, способное отразить нападение большого вражеского десанта почти в самом центре острова. Однако из-за быстрого увеличения количества жилых построек на Котлине укрепление это вскоре потеряло свое оборонительное значение, а потому возникла необходимость в возведении более мощного крепостного сооружения в центральной части острова.
Вооружение крепости в 1712 г. состояло из 231 пушки и 3 мортир на Кроншлоте и о. Котлин. Таким образом, всего имелось 234 орудия. Общее руководство гарнизоном возлагалось на коменданта о. Котлин бригадира (особый чин выше полковника, но ниже генерал-майора. – Авт.) Порошина, назначенного на эту должность в 1710 г. Ему подчинялись комендант Кроншлота полковник Ф. С. Толбухин и комендант крепости «Св. Александр», являвшейся самостоятельным укреплением, полковник П. И. Островской.
К тому времени уже были утверждены штаты гарнизонных полков. Каждый из них состоял из двух батальонов, батальон – из четырех рот. Каждая рота имела свое знамя. Солдаты были вооружены ружьями, фузеями, а нередко и копьями. В каждом полку числились 3 штаб-офицера, 51 обер-офицер и 1216 нижних чинов. Однако фактически полки почти наполовину были не- [стр. 37] укомплектованы. Гарнизон о. Котлин состоял из трех полков: Ф. С. Толбухина, П. И. Островского и И. В. Молчанова общей численностью около 2500 человек.
Зимой артиллерийская команда находилась на Кроншлоте, а летом она перемещалась на Котлин. С 1708 г. такая команда имелась и в крепости «Св. Александр». Команда была довольно большой; это видно из того, что в 1710 г. вице-адмирал Крюйс просил Толбухина выделить на Ивановскую батарею 50 пушкарей. Однако гарнизонная артиллерийская команда не имела постоянного состава. 46
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАВАНЕЙ. ПОБЕДА ПРИ ГАНГУТЕ. ПЕРЕСТРОЙКА
КРОНШЛОТА. АРТИЛЛЕРИЯ
Как отмечалось выше, наряду с возведением нового укрепления не прекращалось строительство гавани. Из-за нехватки рабочих, несвоевременной доставки строительных материалов, большого количества больных работы были завершены только в 1714 г. Так, в 1713 г. сюда было доставлено всего лишь 1770 бревен вместо требуемых 20 000, да и те тонкие, непригодные для устройства срубов.
Гавань стала удобной стоянкой для боевых кораблей в зимнее время. Летом, когда флот выходил в море, в ней бросали якоря торговые суда, все чаще заходившие в первый русский военный порт на Балтийском море.
Следует остановиться на описании Старой гавани. Она занимала часть нынешней Средней гавани и по площади приблизительно составляла половину современной Военной гавани. Стенка ее протянулась к юго-западу от того места, где Усть-канал соединялся с гаванью, на 512 м, а затем она поворачивала на юг под тупым углом. В этой части гавани на стенке был сооружен бастион. Далее стенка доходила до стенки современной Средней гавани, на расстоянии 85,3 м шла вдоль нее, потом вновь под тупым углом поворачивала к востоку. Длина этой части равнялась 319,8 м. Открытая сторона, обращенная к берегу, замыкалась боном. На отмели внутри гавани находились четыре корабельных амбара для хранения корабельного имущества.
Поскольку Старая гавань была недостаточно крепка, тесна и находилась вблизи рейда, откуда могли появиться вражеские корабли, пришлось приступить к строительству новой гавани, которое предусматривалось проектом котлинских гаваней, составленным Петром I еще в 1715 г. Позднее ящики-ряжи и камень Старой гавани были подняты и использованы при создании новых гаваней.
Стенки гавани возводились следующим образом: в лесу рубился бревенчатый сруб для ящиков-ряжей, в которых на высоте нескольких венцов от низу делалось дно. Затем срубы разбирали и частями по льду подвозили к месту строительства. Здесь их вновь собирали, ограждали прочно вбитыми сваями, вырубали прорубь и засыпали камнем до тех пор, пока срубы не становились прочно на дно. После этого на них возводили стенку определенной высоты. Там, где предполагалось установить орудия, стенки сооружались более высокими. На них строились деревянные брустверы, засыпаемые грунтом и обкладываемые дерном. Брустверы засыпались грунтом, привозимым из Петергофа (ныне Петродворец. – Авт.), поскольку там была найдена глина, [стр. 38] которая в смеси с землей и песком придавала сооружению требуемую прочность и надежно защищала его от вражеских ядер.
1714 год ознаменован в истории нашей страны важным событием, которое отразилось и на развитии Кронштадтской крепости. В этом году Петр I решил перенести военные действия в Швецию, чтобы обезопасить выход русских кораблей в Балтийское море. С этой целью в конце мая 15 тысяч человек были посажены на 99 галер и малых галер-скампавей * [* Скампавея – быстроходная галера облегченного типа. Применялась в русском флоте в начале XVIII в. Имела 12–15 пар весел, две мачты для парусов. Вооружение – 1–2 пушки малого калибра. Вмещала до 150 солдат.], которые вышли из гавани о. Котлин и направились в Финские шхеры. Перед ними стояла задача – прорваться к крепости Або (ныне Турку в Финляндии. – Авт.). Через месяц галеры достигли полуострова Гангут (ныне Ханко в Финляндии. – Авт.). Здесь путь им преградил шведский флот, состоявший из 15 линейных кораблей, 3 фрегатов 11 бомбардирских и 11 других судов. Благодаря умелым действиям Петра I и тактическим просчетам шведского вице-адмирала Ватранга эскадра противника была расчленена на два отряда. В ожесточенном сражении русские галеры одержали победу над отрядом, возглавляемым контр-адмиралом Н. Эреншильдом (в некоторых документах – Эреншельд – Авт.). Бой начался 27 июля в 14 часов. Два раза наши суда сближались со шведскими, но под воздействием сильнейшего артиллерийского огня отходили назад. И лишь в третий раз атака принесла успех. Русские корабли, несмотря на плотный огонь, подошли вплотную к вражеским судам, и моряки бросились на абордаж. Более трех часов длился кровопролитный бой. Наиболее ожесточенным он стал при атаке флагманского фрегата «Элефант». Наконец шведы, не выдержав натиска, дрогнули. Один за другим все десять кораблей отряда Эреншильда, спустив флаги, сдались на милость победителей. Израненный Эреншильд был захвачен русскими в плен. Трофеями победителей стали фрегат «Элефант», галеры «Эрн», «Трана», «Грипен», «Лаксен», «Геден» и «Вальфиш», шхерботы* [* Шхербот – небольшое парусное гребное шхерное судно с одной мачтой и 6–8 парами весел, вооруженное 4–6 легкими пушками.] «Флюндра», «Мортан» и «Симпан».
Плененные шведские суда Петр I привел в столицу. Когда они вошли в Неву, народ восторженно приветствовал победителей. Повсюду развевались флаги. На мосту через протоку в Петропавловскую крепость была установлена арка с назидательными картинами. Интересно содержание одной из них: художник мастерски изобразил орла, нападающего на слона. Картина сопровождалась надписью «Орел не мух ловит» (намек на взятый в плен фрегат «Элефант», что означает «слон». – Авт.). Мужество русских моряков, принимавших участие в историческом сражении, было ознаменовано награждением их памятными медалями с надписью «Прилежание и верность превосходят силу». Сам Петр I был удостоен звания вице-адмирала.
Победа русского флота при Гантуте имела весьма важное военно-политическое значение. Она стала таким же переломным моментом в ходе борьбы со Швецией на море, как и Полтавское сражение на суше. Гангутская победа обеспечила России окончательный и прочный выход к берегам Балтийского моря.
Шведский флот, потерпев поражение на море, уже был не так страшен, как в начале войны. Театр военных дей- [стр. 39] ствий отодвинулся на запад, и можно было приступить к более основательным работам на Котлине и Кроншлоте. 1714 год примечателен еще и тем, что в этом году Петр I решил прекратить деревянное строительство в Петербурге и начать там возводить только каменные постройки. Он повелел всем губернаторам искать на морском побережье места, богатые глиной и удобные для основания кирпичных заводов. В результате принятых им решительных мер уже к концу года производство кирпичей достигло нескольких миллионов. Но если с кирпичом было более или менее благополучно, то сложнее оказалось с каменщиками. Профессия эта на Руси не была распространенной, настоящих мастеров своего дела можно было по пальцам пересчитать. Для того чтобы собрать их в Петербурге, Петр I запретил вести каменное строительство в других городах. Теперь волей-неволей кирпичных дел мастерам пришлось перебираться в новую столицу. Один из первых кирпичных заводов был построен в 1712 г. на Котлине. Заведовал им князь Юрий Щербаков. Первоначально продукция этого завода в основном использовалась для строительства губернских домов. Первыми кирпичными постройками на острове стали дома Апраксина и Меншикова, которые уже к 1713 г. были отделаны. Часть кирпича шла на оборонительные сооружения.
После основания Кроншлота прошло более десяти лет. Минувшие события показали, что он уже утратил свое значение. Размещение орудий в замкнутой башне сводило эффективность стрельбы всего лишь к 20–25%. Вполне понятно, что попытайся вражеский флот прорваться через фарватер, он попадет под огонь лишь пятой части орудий, остальные же будут стрелять в «чистое небо». Поэтому требовалась коренная перестройка форта.
Из письма капитана Э. Лейна, ведавшего всеми постройками на Котлине и Кроншлоте, графу Ф. М. Апраксину следует, что начало постройки нового форта намечалось на 5 декабря 1715 г. 47 Лейн сам накануне произвел соответствующие замеры, сделал расчеты рабочей силы и материалов, начертил чертеж форта и отправил его вместе с письмом к Апраксину. Нужно отметить, что подготовительные работы были уже проведены: «лес к тому месту притаскан», «камень… сбиран на груз.» 48 Единственное, что сдерживало интенсивное строительство, – тонкий лед у Кроншлота. Декабрь выдался довольно теплым, и «лед зело живет тонок и скоро пропадает». 49
По-видимому, в декабре удалось только вбить колышки в местах нового строительства. А датой заложения форта «Новый Кроншлот» правильно будет считать 7 января 1716 г. Это видно из следующего письма того же Лейна графу Апраксину: «Сей субботы, то есть января 7-го числа, можно к новозачатому Кроншлоту бить сваи, где надлежит, и… изволите ли сами при закладке онаго Кроншлота быть или повелите оныя сваи бить». 50 Ход строительства четко прослеживается в том же письме: «Новаго Кроншлота срублено выше воды аршин и ныне оные срубы всеми людьми и лошадьми возят на лед», «Новаго Кроншлота срубы, которые были срублены на берегу, и те срубы с берегу свожены и в воду опущены и камнем грузят». 51 Авторы не случайно привели эти выписки из письма Лейна. Многие историки полагают, что срубы для форта готовились не на берегу, а на льду, в местах предполагаемого затопления, они собирались, нагружались камнями и по мере таяния льда под силой собственной тяжести постепенно погружались в воду. Это неточно. Из цитируемого письма видно, что полностью готовые срубы опускали в проруби, не [стр. 40] дожидаясь таяния льда, а затем наполняли камнями. Работа спорилась. Лейн настоятельно просил доставить ему на остров 400 лошадей, иначе, жаловался он графу Апраксину, дело приостановится.
Крайне напряженный и изнурительный, не будет ошибкой утверждать, каторжный труд занятых на строительстве людей, не знавших ни покоя, ни доброго отношения к себе, постоянно недоедавших и не получавших порой до года денежного довольствия, отсутствие даже элементарной медицинской помощи, нормального жилья, болезнетворный климат – вот чему обязаны быстро растущие укрепления не только на Кроншлоте, но и на Котлине. Люди истощались физически и морально; нередко прямо на стройках умирали от усталости и болезней. Воистину крепость возводилась на человеческих костях.
В одной из ведомостей о числе работных людей на о. Котлин, находившихся в ведении капитана Лейна, от 2 декабря 1714 г., т. е. незадолго до строительства Нового Кроншлота, приводятся следующие данные:
|
|
На работе
|
Больных
|
| Работных людей
|
46
|
25
|
| Арестантов
|
140
|
243
|
| Каторжных
|
102
|
76
|
| Итого
|
288
|
344
|
Всего на работе и больных 632 человека. 52
Приведенный документ свидетельствует, во-первых, о составе рабочих, а во-вторых – об их непосильном труде и высокой заболеваемости. Основную их массу в описываемый период составляли арестанты и каторжники, сосланные на остров со всех губерний.
Петр I уделял строительству крепости самое пристальное внимание. Всеми крепостями в течение всего его царствования ведало Военно-сухопутное управление, причем он не только постоянно контролировал деятельность этого ведомства, но и лично вникал во все детали укрепления крепости. Не было ни одной постройки, проект которой не рассмотрел бы он сам, не внес бы в него каких-либо существенных изменений и дополнений. Это касалось не только построек. В связи с возрастанием роли артиллерии в обороне крепости, повышением ее значения в бою, называя ее «решительницей победы», Петр I всерьез занялся изучением теоретического и практического курсов артиллерии и достиг в этом отношении немалых успехов, получив диплом «огнестрельного мастера и художника». Велики его заслуги в реорганизации артиллерии, налаживании изготовления орудий на отечественных заводах, создании пушечных дворов и промышленного производства пороха.
«Враг не словами, а оружием побеждается», – любил повторять Петр I. Орудия, устанавливаемые на Кроншлоте и батареях острова, производились в основном на Литейном, или Пушечном, дворе, основанном на Московской просеке; эта просека положила начало современному Литейному проспекту. Литейный двор начал сооружаться под руководством голландца по происхождению генерал-лейтенанта В. И. (Г. В.) де Геннина в 1711 г. А уже через два года на нем были отлиты первые медные пушки.
Рядом с Литейным двором находились арсенал, пристань на Неве для подвоза материалов и вывоза готовой продукции, поселения рабочих – Литейная и Пушкарская слободы.
Первоначально на Литейном дворе отливали пушки с готовым каналом ствола, а позднее – «глухие» пушки, высверливая канал в готовой отливке. С расширением крепости, увеличением [стр. 41] числа боевых кораблей возрастала потребность в орудиях, соответственно чему расширялось их производство. Так, если в 1714 г. на Литейном дворе трудилось всего 37 человек, то в 1720 г. их число достигло почти 200, а количество специальностей увеличилось до 25.
На Березовом острове, по дороге к Кронверку, был построен первый в Петербурге пороховой завод. Здесь секреты приготовления пороха держались в строжайшей тайне. Мастера, владевшие ими, весьма неохотно раскрывали их. Так, приглашенный на русскую службу пороховых дел мастер немец Петр Шмидт, например, тайны своего ремесла доверял только жене Валентине де Вель, которая после смерти мужа стала единственной хранительницей его секретов. И лишь через сорок лет службы на пороховых заводах России она передала производственные тайны русским мастерам Ивану Леонтьеву и Афанасию Иванову. 53
Примечательно, что сразу же после сражения под Нарвой Петр I приказал обновить артиллерийский арсенал, устранить многокалиберность орудий, повысить их надежность. Он добился введения так называемой артиллерийской шкалы и разработки единых чертежей унифицированных пушек, гаубиц и мортир. Артиллерийская шкала строго регламентировала калибры орудий, которые стали определяться не диаметром канала ствола, а весом (массой) ядра в артиллерийских фунтах и торговых пудах. Такая система определения калибра орудий действовала вплоть до 1877 г. При участии Петра I в практику были введены также таблицы стрельбы из орудий.
В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи внимание посетителей привлекает одно орудие. Это 18-фунтовое (135 мм) орудие весом почти 219 пудов (3,5 т) было отлито при непосредственном участии Петра I на Олонецком заводе. Ему же принадлежит идея и составление чертежа не деревянного, как обычно, а первого в мире железного лафета. Конструкция этого лафета, предложенная Петром I, во многом напоминает конструкции лафетов орудий, которые были приняты на вооружение в зарубежных странах лишь через 130 лет. Первое отечественное орудие с железным лафетом было установлено на бастионе Кронштадтской крепости.
ДЕТИЩЕ ПЕТРА I. НОВЫЕ ГАВАНИ. НОВЫЙ КРОНШЛОТ.
ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕПОСТИ
Форт «Кроншлот» и укрепления на о. Котлин стали поистине детищем Петра I. При любой возможности он старался побывать на острове, предпринять новые и действенные меры для его укрепления. Так, только в навигацию 1715 г. царь четырнадцать раз посетил остров и форт «Кроншлот». Причем с 5 июля по 12 августа он почти постоянно находился на кораблях Балтийского флота, выходил на них в море, проводил стрельбы и различные учения, проверял выучку и мастерство капитанов судов, не забывая при этом и о строительных работах. 19 июля Петр I еще раз осмотрел остров, произвел замеры гавани, для чего «поставлены были галеры от острова до берега для меры гавана (измерения гавани. – Авт.)» 54
Сбывались мечты Петра I. Все чаще и чаще к крепости подходили иностранные торговые суда. Прошло всего лишь двенадцать лет с того момента, как у Котлина, а затем Петербурга в ноябре [стр. 42] 1703 г. бросило якорь торговое судно голландского шкипера Выбеса, доставившее в строящийся город соль и вино. Тогда Меншиков торжественно вручил Выбесу награду – пятьсот золотых, назначенную Петром I еще в конце мая 1703 г. тому, кто первым приведет иностранное судно в Неву. И вот 22 июня 1715 г. Петр I торжественно встречает сразу 45 голландских и английских торговых кораблей.
Необходимость перестройки Кроншлота и создания новых гаваней стала совершенно очевидной. Требовались просторные гавани, удобные для стоянки военных и торговых кораблей. К тому времени уже в разгаре были работы по строительству Новой гавани. Для того чтобы их ускорить, Петр I приказал разделить гавань на части и назначить ответственными за ведение работ губернаторов. К 15 декабря 1716 г. на Котлин прибыли московский, азовский, архангелогородский и нижегородский губернаторы. Вместо заболевшего или притворившегося заболевшим казанского губернатора отбывать «трудовую повинность» явился ландрат Акинфиев. Больше всех не хотелось покидать насиженное место сибирскому губернатору князю М. Гагарину. Восемь настоятельных указов отправил Сенат в его адрес, но он так и не выехал в Кроншлот, а послал туда своего стольника Лошакова.
Сразу же по прибытии на Котлин первых губернаторов началась постройка срубов. Однако подрядчики и на сей раз подвели строителей. Почти весь доставленный ими лес был забракован Лейном, а потому намеченные на 1716 г. мероприятия оказались невыполненными. И в последующие годы положение оставалось напряженным. Вновь не хватало леса и камня, в связи с чем, по указанию Сената, четвертая часть рабочих была оторвана от основного дела и послана на заготовку леса; остальные были направлены на расширение Старой гавани Кроншлота, которая после реконструкции должна была вмещать 35–40 кораблей.
Задерживали строительство также злоупотребления лиц, руководивших стройкой. Расцветало казнокрадство, сопровождавшееся непомерными налогами и усилением угнетения простого люда. Вот как писал об этом князь Яков Долгоруков царю: «В 1716 г. на гаванное строение положены вновь тягостные сборы, не отписывая в Сенат, а именно в двух губерниях: в Московской на перевоз и поставку леса и камня [стр. 43] с Выборгской стороны к гавани по рублю семи алтын и четыре деньги со двора, итого 258 000 руб., и те деньги доправлены в малые дни (т. е. взысканы в короткий срок. – Авт.), кроме работников и плотников, на которых особый сбор был. В Нижегородской на перевоз леса и камня к гавани положено собрать по 30 алтын со двора, и из тех денег к оному гаванному делу от ландратов и комиссаров явились в лесу подрядчики вымышленные и другие плутовства, и того несмотрения на губернаторах взыскиваемых с истезаниям, а виновных в оных подрядах разыскиваем жестоко и тому как в Сенат уведано и розыск идет есть с четыре месяца». 55
Капитан Лейн в донесении Меншикову от 31 декабря 1716 г. подробно описал ход работ по строительству гавани. Из этого донесения видно, что с наибольшим рвением трудились уроженцы Азовской губернии, начавшие «рубить гавань по берегу в длину на 165 сажен, а глубины будет в воду на 9 фут…»56 В донесении ощущается озабоченность главного строителя крепости состоянием дел: не ладятся работы в гавани, а ведь ему ко всему прочему «Новый Кроншлот строить велено, о том ему и чертеж подписан рукою Ц. В. (Царского Величества. – Авт.)». 57
9 января 1717 г. Лейн отправил Меншикову чертеж гавани; весь объем предстоящих работ он распределил на шесть губерний пропорционально количеству присланных из них людей. Раньше он просил Меншикова доложить царю о том, что с 1 января 1717 г. надо начать завозить камень на Кроншлот, и что люди, необходимые для перестройки Кроншлота, до сих пор не прибыли. Первыми приступили к работам «переведенцы» из Казанской губернии: они «зачали рубить гавань на берегу».
Получив столь тревожное донесение Лейна, Меншиков решил на месте разобраться в создавшейся обстановке, а также ознакомиться с возникшими трудностями. Прибыв на Котлин, он убедился, что за зиму построить Новую гавань в Кроншлоте невозможно, а потому приказал удлинить Старую гавань на 50 саженей для того, чтобы флот мог найти в ней надежное и удобное убежище. Капитан Лейн произвел соответствующие расчеты, о чем сообщил 20 января 1717 г. в донесении Меншикову. К этому донесению была приложена нижеследующая таблица распределения работ и людей, присланных из различных губерний. 58
| Губернии
|
Доли
|
Людей
|
Камня,
саженей
|
Бревен, 4-х саж.
|
Бревен, 5-х саж.
|
Бревен, 7-х саж.
|
Бревен, 8-х саж.
|
| Московская
|
44 1/2
|
267
|
445
|
1335
|
1335
|
134
|
83
|
| Нижегородская
|
16
|
96
|
160
|
480
|
480
|
48
|
19
|
| Архангелогородская
|
18
|
108
|
180
|
540
|
540
|
66
|
22
|
| Сибирская
|
9
|
54
|
90
|
270
|
270
|
27
|
11
|
| Казанская
|
5
|
30
|
50
|
150
|
150
|
15
|
6
|
| Азовская
|
7 1/2
|
45
|
75
|
225
|
225
|
22
|
9
|
| Итого:
|
100
|
600
|
1000
|
3000
|
3000
|
312
|
150
|
Если строительство гаваней в основном продвигалось неплохо, то реконструкция Кроншлота требовала непосредственного вмешательства самого Петра I, поскольку работные люди, присланные из губерний, не подчинялись [cтр. 44]
[Стр. 45] Лейну, а с помощью одних солдат он не мог справиться с большим объемом работ на форту. По указанию царя часть людей была переброшена на битье (бойку) свай и рубку венцов для крепости. Это позволило уже в начале мая 1717 г. установить первые пушки на вновь срубленных венцах. Всего к 25 апреля 1717 г. в Кроншлоте, в крепости «Св. Александр» и на батареях уже имелось 275 пушек и 19 мортир. 59
Форт «Новый Кроншлот» строился и вооружался еще несколько лет, и лишь в мае 1724 г. он был полностью завершен. Это укрепление представляло собой вытянутый пятиугольник бастионного начертания. Башня, расположенная в юго-восточном углу, была окружена анвелопой на срубах. Все фронты – рубленые стенки на ряжевых основаниях с брустверами и батареями – образовывали просторную внутреннюю гавань с тремя воротами для входа кораблей.
По указанию А. Д. Меншикова генерал-фельдцейхмейстер Я. В. Брюс осмотрел батареи на Котлине и Кроншлоте и остался недоволен их состоянием. Для устранения замеченных недостатков, ремонта и вооружения батарей сюда был направлен заведовавший Петербургской гарнизонной артиллерийской командой майор Витвер. Он начал весьма активно действовать: вооружал Новый Кроншлот, ремонтировал Ивановскую и другие батареи.
В связи с довольно сильным вооружением крепости намного расширялись обязанности коменданта Котлина. Учитывая это, Петр I дал новую инструкцию бригадиру Порошину, озаглавленную «О должности его и будущим при нем комендантам в Кроншлоте и прочих крепостях на острове Котлин».
22 июля 1717 г. на расстоянии 1,5 км от крепости «Св. Александр» был заложен новый редут. «А помянутаго редута, – писал в донесении Меншикову комендант Котлина бригадир Порошин, – сделано мерою сажень с 30, а в вышину от земли выкладено дерном в 1 1/4 аршин, а для работы людей дано драгун и солдат 80 человек». 60
Одновременно со строительством на о. Котлин Корабельной гавани сооружалась Купеческая гавань, сохранившая свое наименование до настоящего времени. Она была не только удобна для стоянки судов, но и стала впоследствии грозным укреплением. Упоминание о создании Купеческой гавани относится к началу 1718 г. Так, в письме Меншикова Петру I от 27 февраля 1718 г. говорится: «…о строении при Котлине острове…, что ныне оных сделано також и в каком действии состоят, …доношу: Корабельной гавани губерниями сделано… срублено сверх воды на 5 фут и камень возят, а також и косыя сваи, за что крепить корабли, бить зачали…; из Купеческой гавани срублено сверх воды одной половины три венца, а на другой один, и камень возят, и, как я уповаю, что оная работа… в будущем марте, конечно, по окончанию придет…»61
Из данного письма следует, что строительство Купеческой гавани должно было быть завершено в марте 1719 г. В связи с этим последовало указание: «возить камень к Купеческой гавани от полков команды… на офицерских лошадях, за что за провоз даны будут из казны деньги». 62 Однако, как жаловался бригадир Порошин Меншикову, «оный камень те офицеры весь вывозили, а заплаты (платы. – Авт.) за возку не получили». 63 О том, что строительство Купеческой гавани в основном в марте, как планировалось, было завер- [стр. 46] шено, свидетельствует письмо Меншикова Петру I. В нем он, в частности, сообщал, что «на Купеческую гавань перевезено камня 200 сажень; а надобно нарубить еще один венец». 64
В справке о постройке гавани на о. Котлин с 1715 по 1718 г. содержатся интересные обобщенные сведения, некоторые из которых уместно здесь привести. Так, длина гавани с больверками должна была быть не менее 1300 саженей, т. е. 2774 м. Для ее строительства «лесу надобно 4-х саженного 95 000, 5-ти саженного 95 000, свайного 10 000, итого 200 000; камня к гавани и к Кроншлоту изготовить 6167, для наполнения в готовые срубы 24 655, итого 30 822 сажени». Московской, Архангелогородской, Казанской, Нижегородской и Азовской губерниями были направлены 31 486 человек. Каждому из них выдавалось в среднем по одному рублю в месяц. Наиболее щедрой оказалась Сибирская губерния. Из нее были посланы на работы 3114 человек и выделено по 10 рублей на каждого из них в месяц. Для перевозки леса и камня потребовалось 15 448 лошадей. На провиант (продовольствие. – Авт.), оплату лошадей и фуража для них нужно было взыскать с четырех губерний 130 990 рублей. 65 Эти цифры говорят о масштабности производимых работ, высокой для того времени организации труда.
Строительство гаваней и батарей было общим делом. Все – от Петра I до простого солдата, матроса и рабочего, хорошо понимая значение крепости, стремились не только своевременно завершить намеченные работы, но и вносили предложения по усилению ее мощи. Интересные предложения, например, были сделаны капитаном Кононом Зотовым. В письме Петру I от 22 сентября 1719 г. он предлагал средства защиты гаваней от вражеских брандеров. Будучи в Париже, Зотов присутствовал при испытании негорючей смолы. Предметы, покрытые ею, не загорались. «Не худо бы всю гавань только смолой высмолить», – пишет он. Кроме того, он советовал защитить гавань рогатками, выставив их впереди на расстоянии 40–50 саженей. Устройство таких рогаток несложно: «только два бревна сплоченныя, яко фигуры SSS показуют, а концы бы их были окованы железом и вельми остры, чтоб могли лучше брандер подпереть и одержать». Для уничтожения вражеских брандеров он рекомендует изготовить плоскодонные, низко сидящие в воде, с низкими бортами понтоны, «на которых сделаны амбразуры и зубцы, как на стенах в городе». В отличие от крепостных орудий, высоко поднятых над уровнем моря и не способных вести прицельный огонь по нижней части корпусов кораблей, орудия с понтонов могут бить наверняка. 66
В 1719 г. вооружение крепости увеличилось до 450 орудий за счет привезенных из Москвы 156 пушек. В том же году на Котлин и Кроншлот были направлены из полевой артиллерии 120 артиллеристов, а для усиления гарнизона – еще 930 человек.
В целом работы по сооружению гаваней шли беспрерывно. В 1720 г. достраивались Купеческая и Военная гавани, были возведены соединяющие их стенки. В результате образовалась Средняя гавань. С большим рвением вели гаванные работы солдаты, которым после окончания строительства был обещан в виде поощрения отпуск. И хотя не все было доделано, гавани укрепили весьма сильно.
25 апреля 1720 г. Петр I осмотрел вооружение на стенках гаваней. После осмотра он приказал установить на стенках Купеческой гавани 100, а на стенках Военной гавани – 80 орудий. Их установка была поручена шаутбенахту (контр-адмиралу. – Авт.) П. И. Сиверсу, который постарался с честью [стр. 47] выполнить доверенное ему дело. Сразу же после отбытия царя с острова он приступил к претворению в жизнь его указаний. Прежде всего он распорядился расширить батарею, расположенную в юго-восточном углу Военной гавани, на 42,6 м, разместить на новых местах орудия, закончить укрепления двух батарей у восточных ворот гавани. На северо-западном углу Военной гавани батарею срубили от самых ворот до угла. Уже 6 мая 1720 г. Сивере смог доложить Петру I: «По ныне по тем батареям поставлено 80 пушек, а на торговом гавану 41». 67
18 мая 1720 г. Петр I подписал три указа об обороне крепости. Задачи флота излагались в указе, данном главному командиру флота шаутбенахту Сиверсу. В нем, в частности, отмечалась необходимость затопления трех старых кораблей, а также сужения фарватера между Кроншлотом и островом. Шестым пунктом этого указа строго предписывалось: «Оборону флота и сего места держать до последней силы и живота, яко наиглавнейшее дело». Эти слова начертаны на памятнике Петру I, возведенном в Петровском парке Кронштадта в 1841 г.
Сухопутными силами и галерами, дислоцированными на Котлине и Кроншлоте, командовал гвардии майор М. А. Матюшкин. Вторым указом ему предоставлялось право строить батареи там, где он сочтет это нужным. Подробные инструкции были даны и генерал-майору Корчмину, заведовавшему артиллерийской обороной всего побережья. В указе по артиллерии говорилось: «стрелять, как можно скоро, однако ж с доброй прицелкой, дабы действительно были выстрелы, а не гром». 68
О том, насколько сильна и неприступна была крепость в описываемый период, свидетельствует весьма любопытный факт. Весной 1721 г. к Петру I на Котлин прибыл чрезвычайный посол Швеции генерал-адъютант Марке. До 30 августа, т. е. до дня заключения Ништадтского мира со Швецией, оставалось почти четыре месяца. Несмотря на то что война еще не закончилась, царь показал генералу укрепления, провел его по батареям и гаваням. «Хотя и не обычай между воюющими, – сказал он окружающим, – показывать крепости неприятельскому офицеру, однако же ему то учинено: не надобно им денег на шпионов терять, понеже он все видел». 69 Своеобразная экскурсия по крепости не могла не возбудить у шведского генерала почтительного уважения к мощным укреплениям с сотнями орудий на них. И кто знает, может это и приблизило в какой-то степени день окончания затянувшейся Северной войны.
НИШТАДТСКИЙ МИР. ВТОРОЙ МОРСКОЙ ФОРТ «ЦИТАДЕЛЬ».
СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛОВ И ДОКОВ.
ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ОСТРОВА
Ништадтский мир отмечали торжественно. Известие о заключении мирного договора Петр I встретил в море между о. Котлином и Дубками, куда он следовал для осмотра предполагаемой границы между Россией и Швецией. На бригантине царь отправился в Петербург, чтобы лично известить о столь важном событии его жителей. На протяжении всего пути по Неве с бригантины раздавались пушечные выстрелы, звучали звуки труб. Петр I в парадном мундире стоял на носу судна с обнаженной головой. Торжественно встрети- [стр. 48] ли бригантину у Троицкой пристани горожане. Они уже поняли – свершилось что-то очень важное. Затем отслужили благодарственный молебен. После трехкратного орудийного салюта на площадь выкатили бочки с вином и начались народные гулянья.
Канцлер Г. И. Головкин, флагманы и приближенные просили государя, «дабы в знак понесенных своих трудов в сию войну» он принял чин адмирала «от красного флага». Петр I охотно согласился: «ибо в сию войну довольно чином вице-адмирала служил». При этом он не забыл наградить и своих верных сподвижников в ратных делах. Генерал-адмиралу Ф. М. Апраксину, стоявшему с 1706 г. во главе русского флота и получавшему фельдмаршальское содержание, было пожаловано право поднимать новый флаг – кайзер-флаг (брейд-вымпел. – Авт.). К. И. Крюйс стал адмиралом, а А. Д. Меншиков и П. И. Сиверс – вице-адмиралами. Яну Фангофту и Науму Синявину (в некоторых документах «Сенявин». – Авт.) были присвоены звания контр-адмиралов.
Хотя война благополучно завершилась, Петр I не успокоился на достигнутом. Он считал, что Кронштадтская крепость все еще недостаточно вооружена и укреплена. И он требует незамедлительно продолжить работы по ее усилению. Для того чтобы защитить Купеческую гавань от возможных вражеских обстрелов со стороны моря, он повелел усовершенствовать сначала Ивановскую батарею, а затем начать возводить против нее на отмели новую батарею, получившую название «Цитадель», позднее переименованную в форт «Император Петр I». В этих работах участвовали солдаты и офицеры Семеновского и Преображенского гвардейских полков, другие части гарнизона.
В 1724 г. работы на Цитадели в основном были завершены. Сторона форта, обращенная к рейду, состояла из двух бастионных фронтов протяженностью 170,6 м, составлявших тупой угол. На этом укреплении было установлено 106 орудий.
Авторы обнаружили в архиве один из первых чертежей Цитадели. На нем пороховые погреба расположены внутри гавани на сваях, а помещения для артиллеристов – на куртинах. В последующем форт несколько перестроили, разместив укрытия и склады для боеприпасов в верхнем строении, в брустверах. Это хорошо видно на приводимом плане и разрезах Цитадели, опубликованных Ф. Ф. Ласковским в «Материалах для истории инженерного искусства в России», изданных в 1865 г.
Особое место в системе Кронштадтской крепости должны были занять каналы и доки. Согласно грандиозному плану, также составленному Петром I, о. Котлин предполагалось перерезать четырьмя каналами. Один из них должен был быть проложен по направле- [стр. 49] нию современного канала Петра I до северного берега острова. Параллельно ему в восточной части острова планировалось провести второй канал. Третий канал, перпендикулярный первым двум, должен был соединиться на западе с морем, а на востоке дойти до нынешнего оврага, где по замыслу царя надобно было вырыть огромный бассейн с тремя эллингами. На расстоянии 469 м параллельно третьему каналу должен был проходить четвертый, выходящий на западе к морю, а на востоке соединяющийся со вторым каналом. Каналы предназначались не только для перевозок внутри острова и сообщения с доками. Они главным образом предусматривались для маневрирования, оперативной передислокации боевых кораблей, для нанесения мощных ударов по неприятельским судам.
На сохранившихся старинных рисунках и гравюрах, исполненных в первой четверти XVIII в., можно видеть изображения предполагавшихся канальных сооружений, многие из которых были поистине уникальными по сложности и объему работ. Так, на рисунке архитектора И. Ф. Браушнтейна (1722 г.), изобразившего Кронштадтскую гавань в том виде, вероятно, в каком она должна была быть построена, отчетливо виден канал, глубоко вдающийся в гавань. С обеих сторон его как бы обрамляют две широкие дамбы. Канал этот делит Военную гавань на две части; слева от него находится Итальянский пруд, а рядом с ним – дворец А. Д. Меншикова, получивший название Итальянского ввиду того, что в его строительстве с 1720 по 1724 г. принимали участие итальянские мастера. Позже дворец претерпел значительные перестройки, связанные с размещением в нем вначале Морского кадетского корпуса, затем Штурманского и Инженерного училищ, а в 1946 г. – Дома офицеров. В разное время в этом здании располагались органы управления крепости. Здание это сохранилось до настоящего времени.
[Стр. 50] На другой стороне канала также был пруд, на берегу которого возвышался кирпичный трехэтажный дворец Петра I, построенный в 1720–1722 гг. на ряжах. В 1788 г. дворец сгорел. Восстанавливать его не стали, а пруд засыпали. На этом месте сейчас находится любимое место отдыха кронштадтцев – Петровский парк.
Однако наиболее удивительно на упомянутом рисунке изображение многоярусной башни-маяка в конце канала, доминирующей над всеми постройками крепости. В башне этой предусматривалась арка для прохода больших кораблей и специальные маячные устройства. Будь этот проект осуществлен, слава кронштадтской башни-маяка была бы ничуть не меньше славы маяка, воздвигнутого на острове Фарос (близ Александрии в Египте. – Авт.)*. [* Фаросский маяк располагался при входе в порт о. Фарос. Этот первый в истории маяк был воздвигнут в середине III в. до н. э. Маяк возвышался на 120 м над уровнем моря. Удивительное сооружение было увенчано фигурой Посейдона и в античном мире считалось одним из семи чудес света. Маяк был разрушен землетрясением в XIV в.] Архитекторы Н. Микетти и И. Ф. Браунштейн составили проект, изготовили чертежи и даже модель башни**. [** Модель башни, выполненная И. Ф. Браунштейном, хранится в Центральном военно-морском музее.] В 1722 г. был заложен ее фундамент, но затем строительство было прекращено. Среди исторических материалов авторам удалось найти документ, проливающий свет па дальнейшую судьбу башни. Так, в докладе Морской комиссии императрице Анне Иоанновне от 17 апреля 1732 г. говорилось: «…по указу Петра I… положено было сделать на канале башню и под нею шлюз, и понеже по представлениям и по поданным в комиссию ведомостям явилось, что стены под оною сделаны нехорошего мастерства и весьма ненадежнаго, что по качеству величины той башни содержать не могут, и ежели старыя разбирать, а иныя делать, то от того и канал весьма повредится мог и к починке оного вновь немалые иждивения потребны будут, а оная башня едино только для красоты служить имеет, то ради комиссия оную ныне вдруг построить не за нужно признавает…»70
Так была решена участь башни-маяка над каналом: ее строительство было прекращено. Следует отметить, что это имело смысл, ибо башня к тому времени действительно стала бы играть роль только украшения канала. Идея о создании маяка, обеспечивающего безопасность плавания военных кораблей, уже нашла свое воплощение. Осенью 1719 г. по ночам на Котлинской косе по приказанию Петра I зажигались огни в фонарях для беспрепятственного прохода кораблей в крепость и порт. Через два года на Лондонской отмели, названной так после гибели здесь в 1719 г. в результате сильного шторма 54-пушечного корабля «Лондон», приступили к строительству деревянного маяка. Чуть позже на Котлине был построен каменный маяк, который обошелся государственной казне в 16 тысяч рублей.
К концу царствования Петра I на Балтийском море уже действовало пять постоянных каменных и деревянных маяков. А в крепости имелись люди, способные эксплуатировать их. В 1716 г. был даже выделен офицер, который вел систематические наблюдения за состоянием имевшихся маяков и определял целесообразность строительства новых.
Первоначально система освещения маяков была крайне неудобна и требовала значительных денежных затрат. Так, на одном только Кронштадтском маяке, помимо угля, расходовалось около 1553 пудов (25 т) дров в год. Нередко маячный огонь заливало дождем. Если приготовленные на ночь дрова [стр. 51] сгорали быстрее, чем наступал рассвет, маяк оставался без освещения. Маячные огни очень походили на береговые огни, что порой приводило к кораблекрушениям.
К началу XX в. для обозначения и безопасности входа на Кронштадтский рейд со стороны моря служил Толбухинский маяк, расположенный на острове, носящем имя одного из первых строителей Кронштадтской крепости и организатора обороны о. Котлин – полковника Ф. С. Толбухина, и Лондонский маяк у Лондонской отмели. Николаевские створные маяки на Кроншлоте обозначали фарватер для прохода судов по Большому рейду. Для удобства и безопасности входа в гавани Кронштадта на углу Военной гавани также возвышался маяк, а на воротах каждой гавани и на пристанях зажигались отличительные фонарные огни.
Однако вернемся к каналам. Как уже отмечалось, полностью осуществить гигантский проект Петра I не удалось. Тем не менее и то, что было сделано, внушает уважение к его строителям и поныне.
Именной указ Петра I, направленный М. М. Самарину и датированный 8 мая 1719 г., обязывал сенатора «принять… солдат из военной канцелярии, а именно, которые пришли из Выборга, из Пернова (ныне Пярну в Эстонии. – Авт.) и с Москвы, также мужиков из здешней губернии (которым взять о числе ведомостей из губернской канцелярии), и оными начать канал близ соборной церкви Св. Апостола Андрея Первозванного от берега морского до доков, и доки, также и стороны у канала отделать…»71 Как следует из этого указа, для выполнения намеченных работ в распоряжение Самарина, кроме солдат, выделялись местные жители. Для того чтобы «мужики» лучше работали и не убежали, их распределили по солдатским батальонам.
Генерал-фельдмаршал А. Д. Меншиков к этому времени обязан был изготовить силами драгун пять тысяч тележек, лопаты, кирки и топоры. Решен был вопрос и о досках, которых требовалось немалое количество. Так, подрядчик Корсаков обязался поставлять дубовый лес; для вспомогательных работ использовались доски после разборки пришедших в негодность судов.
Согласно указу, строители уже в том же 1719 г. должны были прорыть от морского берега канал «длины на 180 саженях, ширины на 15 саженях; земли вынуть на 2 сажени» (384 Х 32 Х 4,27) м. 71 Таким образом, предстояло извлечь 52 435,4 м3 грунта.
Солдаты и «мужики» трудились весьма добросовестно. Всего к концу июля на работах были заняты 3218 человек, из них 2713 – только на канале. А 100 человек были посланы в Петербург для разборки старых судов и погрузки досок. На острове тем же делом занимались 80 человек. 200 человек доставляли на Котлин закупленные в Петербурге доски, а 100 изготовляли из них, уже у канала, щиты. 25 кузнецов старательно разбивали громадное количество камней. Однако людей не хватало. На каждой сажени (2,1336 м) длины канала работали 30–40 человек. Они распределялись равномерно по ширине канала и в день из-за сложности грунта заглублялись едва на 1 фут, т. е. 0,3048 м на человека. Такими темпами предполагаемый объем работ можно было выполнить только за три с половиной года.
Можно представить, ценой каких усилий претворялись в жизнь столь грандиозные планы, и понять, почему из намечаемых четырех каналов не все были проложены. И надо было обладать большим мужеством, чтобы принять на себя ответственность за организацию и осуществление столь масштабных работ. Такие люди в России нашлись. [Стр. 52]
18 марта 1720 г. комиссар Петр Никифорович Крекшин обратился к Петру I с просьбой доверить ему прорыть канал. Он обязался продолжить приостановленные работы, довести канал до доков и пруда, удлинить начатый в 1719 г. новый канал. Ширину этого канала он предлагал сделать равной 16 саженям (34,1 м), а глубину – 4 1/2 саженям (9,6 м). Работы должны были вестись следующим образом. Извлеченную землю предполагалось ссыпать поблизости от канала и разбрасывать на расстоянии до 50 саженей (106,6 м). При образовании нежелательных бугров следовало отвозить грунт на 70 саженей (149,4 м) и разбрасывать в низких местах. Встречающиеся при рытье камни должны были собираться и складываться на расстоянии 20 саженей (42,7 м) от канала. Те камни, которые землекопам окажутся не под силу, нужно было разбивать прямо в ложе канала инструментами или подрывать, для чего Крекшин просил Петра I предоставить ему порох и подрывных дел мастера. Помимо этого, он запросил 100 ломов, 2000 лопат, 1000 кирок, 800 тележек, причем ремонт инструмента принимал на свой счет, а по окончании работ обязывался его вернуть. Для ликвидации последствий возможного появления воды подрядчик должен был на собственные средства изготовить водоотливные машины.
За каждую кубическую сажень казна должна была выплатить Крекшину 5 рублей. Таким образом, ему причиталось 97 200 рублей. Крекшин предусмотрительно запросил из этой суммы 5000 рублей для найма работных людей и обещал сразу же приступить к работам, чтобы закончить их летом того же года. При задержке работ по не зависящим от подрядчика причинам срок их завершения переносился на апрель – май 1721 г. В случае срыва работ или их задержки по его вине, а также несвоевременной сдачи канала под отделку затраченные деньги удерживались с Крекшина, все его движимое и недвижимое имущество поступало в государственную казну, а его самого надлежало казнить.
Петр I, осматривая старый канал вместе с Крекшиным, 18 мая 1720 г. подписал указ, которым законодательно подряд на рытье канала отдавался Крекшину. Согласно этому указу выделялись из Адмиралтейства три водоотливные машины.
Еще 23 марта 1720 г. капитан Э. Лейн произвел соответствующие замеры, установил вехи, а на следующий день землекопы вынули уже первый грунт. Им предстояло проложить новый канал, углубить прошлогодний, прорыть пруд длиной 100 саженей (213,3 м), соорудить один сухой и один мокрый доки размерами 36 X 17 X 1 саженей (76,8 X 36,2 X 2,1 м) и 41 X 14 X 4 1/2 саженей (87,5 X 30 X 9,6 м).
В конце мая Петр I поинтересовался ходом работ. В это время возникли сложности с отсыпкой грунта. На трассе, где должен был пройти канал, стояло 258 жилых домов. Петр I повелел пока ссыпать землю близ канала в кучи, а владельцам домов немедля разобрать их и перенести в другие места, за что им была обещана материальная компенсация. Однако указание это было выполнено не сразу, в связи с чем Крекшин даже выразил опасение, что может разориться. В своем донесении от 31 мая 1720 г. в Канцелярию гаванного и канального строения он писал: «Договорился я от канала сыпать землю до 70-ти сажень, а ныне около того канала многое хоромное строение и городьба дворам и огородам в близости, и земли сыпать на те дворы и огороды не дают, а сыплют землю ближе в кучи, за неимуществом (неимением. – Авт.) места; дабы оное на мне не взыскалось, и той земли вновь перевозить было не [стр. 53] повелено, от чего б мне не разориться…»72 В связи с этим уже 10 июля 1720 г. был обнародован царский указ, обязывающий жителей перенести свои строения; Крекшину дается право ссыпать землю на дворы и огороды.
19 июля Петр I снова прибыл на Котлин для осмотра канала. Он остался доволен ходом работ и, отдав несколько неотложных распоряжений, убыл, пообещав дня через два-три вновь приехать.
Так трудом многих тысяч людей создавались уникальные по своей сложности и масштабности сооружения, удивляющие нас и поныне.
1721 год примечателен для крепости тем, что впервые был создан и утвержден Петром I генеральный план строительства на о. Котлин. Этот документ составлен с учетом особенностей рельефа местности, он основан на глубоком знании фортификационного дела. Исполнение всего намеченного способствовало бы решению оборонных и градостроительных задач.
Восточную часть острова занимал город, окруженный крепостной оградой бастионного начертания с западной, северной и восточной сторон. На упомянутом плане было окончательно уточнено местоположение гаваней. Их стенки составляли главным образом южную часть крепостной ограды. Орудия на стенках гаваней взаимодействовали с двумя морскими фортами: «Кроншлотом» и «Цитаделью».
На западной оконечности острова располагалась отдельная небольшая крепость из пяти бастионных фронтов, полностью перекрывающих огнем перешеек на косе. Еще две меньших размеров крепости четырехбастионного начертания предусматривалось возвести на северном и южном берегах острова. Выбор указанных позиций свидетельствует о глубоком понимании и знании фортификационного искусства Петром I. Именно на этих рубежах в будущем будут создаваться главные передовые укрепления о. Котлин.
Тем временем строились батареи на стенках гаваней, канал, доки и пруд («того водоема, что находится у Летне- [стр. 54] го сада» 73). Пруд вместе с каналами и доками занимал большую площадь. В этом районе размещалось 213 частных домов, владельцами которых были лица, служившие по морскому ведомству, или люди, непосредственно связанные с флотом.
Недалеко от строящегося канала были отведены участки для жилых строений: рядовым – длиной 32 м, шириной 19 м; более знатным людям – такой же длины, а ширины – по желанию. Предоставленные земли надо было обязательно застроить, причем сооружениями без заборов и оград; этим преследовалась цель с самого начала придать строениям регулярный характер и строгий благоустроенный вид.
В тот же период велись интенсивные работы по строительству каменных губернских домов и каменного дворца Петра I. Два построенных работными людьми Азовской губернии губернских дома императорским указом от 31 июля 1721 г. были отданы под госпиталь для лиц, занятых морской службой. К концу того же года уже 15 домов возвышались над островом, в основном был закончен царский дворец, построено 27 сараев, 24 печи для кирпичных и черепичных заводов. Здесь были заняты многие люди, направленные сюда с канала и пруда, строительство которых было приостановлено из-за недостатка средств.
В 1722 г. все работы снова велись без задержек. Вооружались стенки Кроншлота, многие кубометры земли были извлечены из каналов, стенки их укреплялись камнем. Три больших провиантских магазина были установлены на ряжах в Старой гавани. В этом году было воздвигнуто на Котлине удивительное строение – «великая над каналом башня» – водокачка с ветряным двигателем.
ЗАКЛАДКА КРОНШТАДТСКОЙ КРЕПОСТИ. СОСТОЯНИЕ ЕЕ к 1724 г.
Навигация 1723 г. началась рано. Уже утром 22 марта тронулся лед на Неве. Петр I с нетерпением ждал этого дня. Ему хотелось побыстрее морем добраться до своего детища в Финском заливе. По случаю начала ледохода было приказано палить из пушек. Однако у Адмиралтейства лед снова встал, и лишь на следующий день Нева окончательно освободилась от ледовых пут. А ровно через месяц, 22 апреля, рано утром Петр I уже отправился на Котлин, где пробыл четыре дня. Осмотрев фортификационные сооружения, гавани и доки, вновь построенные заводы, он еще более утвердился в своем решении начать осуществление задуманного им проекта возведения Центральной крепости на острове.
Закладка Кронштадтской крепости состоялась 7 октября 1723 г. Подробно об этом важном в ее истории событии рассказано в «Журнале, или поденной записке Петра Великого», выдержки из которого будут приведены ниже. 2 октября, несмотря на непогоду, у Троицкой пристани в Петербурге собрались суда знатных людей города, которым велено было сопровождать царя на Котлин. Согласно указу, объявленному в коллегиях и магистрате 1 октября, в поход надлежало выйти «коллегии президентам и всем коллежским советникам по половине, а вице-президентам и другой половине советникам и асессорам остаться в коллегиях». Этим указом закладке крепости было придано значение важного общегосударствепно- [стр. 55] го события, в связи с чем предусматривалась небывалая пышность предстоящей церемонии. В полшестого пополудни флотилия яхт и других судов отправилась в путь. Переночевав в Галерной гавани, к вечеру 3 октября подошли к Кроншлоту, салютовавшему приближающимся судам орудийными залпами, вошли в гавань и пришвартовались у пристани против царского дворца.
Рано утром 4 октября Петр I был уже на яхте, где «делал чертеж фортеции котлинской». После обеда он побывал на месте предполагаемой закладки крепости, «где обрисовал место фортеции маленькими ровиками». Последующие два дня он опять занимался чертежом крепости. Во второй половине дня 6 октября все знатные гости собрались в доме Меншикова, откуда они должны были направиться к месту закладки крепости. Однако сильный ветер нагнал большие волны с залива, и они затопили участок, условно обозначавший место будущей крепости.
На следующий день погода несколько улучшилась. Стих ветер, уровень воды понизился, и в первом часу пополудни выстрелы пушек с Кроншлота оповестили о начале торжества. Несмотря на начавшийся дождь, народу собралось много. «А во 2-м часу пополудни, – читаем в упомянутом выше журнале, – заложили (крепость. – Авт.) таким образом: перво был молебен с водоосвящением и на молебне именована Кронштадт, а по молебне наперед сам Е. В. изволил положить три дернины, потом Ея Величество Государыня Императрица изволила положить три дернины, после того прочие все по одной дернине, а как положили все, то Е. В. угол отрезал, как быть больверку, а с Кроншлота учинена из пушек стрельба. Потом солдаты и матросы стали носить и класть дерн; и как положили в длину до указанного места, а в ширину по 8-ми дернин, тогда на том заложен солдатами и матросами был погреб, а знатным господам подношено было по бокалу хорошего вина бургонскаго…»74
Закладка крепости на Котлине стала событием, весть о котором перешагнула границы России. Вскоре о нем узнали в Европе, где по достоинству оценили столь знаменательный факт.
В интересном труде генерал-лейтенанта Ф. Ф. Ласковского «Материалы для истории инженерного искусства в России» дается описание проекта новой фортеции. В этой книге, в частности, отмечается, что фронты крепостной ограды были расположены по первой системе Кугорна. Фланги бастионов соединялись куртинами, перед которыми располагались реданы. Западная часть крепости, обращенная к косе, состояла из шести бастионов, названных в честь строивших их полков: Преображенского, Семеновского, Ингерманландского, Лефортовского, Бутырского, Морского. В восточной части предполагалось построить двухбастионный, а на северной окраине четырехбастионный фронты. 75 Но многое из этого плана осталось неосуществленным.
Кронштадтская крепость явилась новым важным шагом в развитии отечественной фортификации. По совершенству обороны она превосходила не только русские, но и многие зарубежные крепости.
В 1723–1724 гг. вооружение крепости состояло из 358 пушек, 11 гаубиц и 19 мортир. Из них 257 орудий защищали фарватер между островом и фортом «Кроншлот». В гарнизоне находился 71 офицер и 2664 нижних чина.
3 ноября 1724 г. главным командиром Кронштадта был назначен вице-адмирал П. И. Сиверс, получивший это звание в январе 1721 г. На него же возлагалось управление строительством канала и доков.
Приступая к строительству Центральной крепости, Петр I считал, что [стр. 56] она надежно защитит Петербург со стороны моря. Так, в беседе с князем Меншиковым, начинавшим вместе с ним работы по строительству форта и укреплению о. Котлин, он говорил, что «теперь Кронштадт приведен в такое состояние, что неприятель в море близко появиться не смеет. Инако корабли расшибем в щепы. В Петербурге спать будем спокойно». 76 Действительно, теперь жители молодого города на Неве могли спать спокойно. Путь врагу со стороны моря был надежно прегражден.
В 1724 г. был составлен аншталт (формуляр. – Авт.) крепостей, который определял практическую значимость того или иного фортификационного сооружения. Во всех укреплениях, вошедших в аншталт, полагалось иметь вооружение и содержать в мирное время гарнизоны. В состав аншталта вошли 34 укрепленных пункта, разделенных на три разряда: Остзейские, Российские и Персидские. Первый и третий разряды включали в себя укрепленные пункты вновь завоеванных провинций, а второй – собственно русские. Кронштадтская крепость вошла в разряд Остзейских. Характеризуя ее значение в оборонительной системе государства, Петр I писал, что Кронштадт – «фортеция зело великая, в которой с 2000 пушек надобно, и починку фортеции определить должно». 77
7 мая 1780 года строящийся город-крепость Кронштадт получил свой герб. Его создатель учел особенности островного города при изображении эмблемы. Герб представлял собой щит, разделенный вертикально надвое. Одно поле – красное, другое – голубое. На голубом поле была изображена караульная высокая башня с фонарем и короной наверху. На красном поле – черный котел. Это изображение того котла, который по преданию был найден русскими солдатами при посещении острова. Напуганный неожиданным появлением русских враг, не затушив костра, бросил котел с пищей и поспешно исчез в густых зарослях острова.
Интересен тот факт, что свой герб имел и Кроншлот. В знаменитом гербовнике 1729–1730 гг. сохранилось его описание: «На море кроншлот белый, на верху корона и флаг, поле лазоревое». Однако вернемся к Кронштадту. Строительство заложенной крепости велось быстрыми темпами, хотя и не без трудностей. Главная из них состояла в отрыве крепости от материка. Постоянно ощущалась нехватка рабочей силы, из-за капризов погоды нередко задерживалась, особенно в летнее время, доставка не только строительных материалов, но и продовольствия для работных людей. Труд на острове по праву можно было назвать каторжным. Вот почему, несмотря на жестокие меры, находились смельчаки, которые пытались бежать с царской стройки. Проводимая в этот период податная реформа Петра I была направлена на то, чтобы пресечь самовольное оставление рабочих мест, ликвидировать «вольных и гулящих», которые также приравнивались к беглым. Государственная система была направлена на то, чтобы все подданные были включены либо в службу, либо в тягло, либо в богодельню, «только чтоб… без дела и в гуляках не были». Негодным к службе и отставным солдатам строго настрого приписывалось заниматься делами по силам, но ни в коей мере не примыкать к «гулящим». Считалось, что от беглых и гулящих пользы государству никакой, а одно только воровство.
Определенная трудность состояла и в наборе рабочей силы при выполнении объемных работ, которые велись на острове Котлин безостановочно в течение длительного периода. Определенным препятствием в этом стало введение в 1724–1725 гг. паспортов. Основной целью нового введения было стремление контролировать продвижение населения, [стр. 57] ограничивать подданных во временных и пространственных рамках. Сразу же стал испытываться недостаток вольнонаемных работников, которых теперь без паспортов не пропускали не только в саму крепость на острове, но и в места заготовки леса и камня.
В соответствии с существовавшим положением крестьянин-отходник стремившийся на заработки вне своего поселения, мог найти работу в местах не далее 30 верст от дома. Чтобы покинуть дом, он был обязан выписать себе паспорт – «отпуск» у помещика, а в его отсутствие – у приказчика. В письменном разрешении обязательно указывался срок возвращения крестьянина. Категорически запрещалось отпускать и принимать отходников с семьями, жениться крестьянам во время их выхода на заработки. Все это, естественно, влияло на темпы работ в крепости и усугубляло и без того тяжелое положение ее создателей.
В несколько лучшем положении находились солдаты кронштадтского гарнизона. Хоть и им приходилось трудиться от зари и до зари, они имели пусть не очень высокого качества, но гарантированное питание. Государство отпускало значительные средства на содержание армии. Так, в 1723 г. общие расходы на нужды артиллерии составили немалую по тем временам сумму – 30 тысяч рублей. Для того чтобы выделить такую сумму, в начале 1724 г. был принят закон, согласно которому все расходы на артиллерию возлагались на посадское население. Счет платежей посадского населения и 40-копеечного дополнительного с государственных крестьян – это все, что могло выделить государство на развитие артиллерии, которая играла главную роль в обороне Кронштадта.
С момента возведения форта «Кроншлот» до строительства Центральной крепости на Котлине прошло чуть больше двадцати лет. За это время крепость неузнаваемо изменилась. На почти безлюдном острове были созданы гавани, каналы, сооружены оборонительные укрепления, каменные строения, потребовавшие колоссальных денежных затрат, а главное – нечеловеческих усилий десятков тысяч простых работных людей, чьими руками была создана эта неприступная для врага крепость. Под надежной защитой ее стен вырос Балтийский флот, который к концу царствования Петра I стал сильнейшим на Балтийском море. Орудия его кораблей и Кронштадтской крепости в любой момент были готовы отразить нападение врага.
|